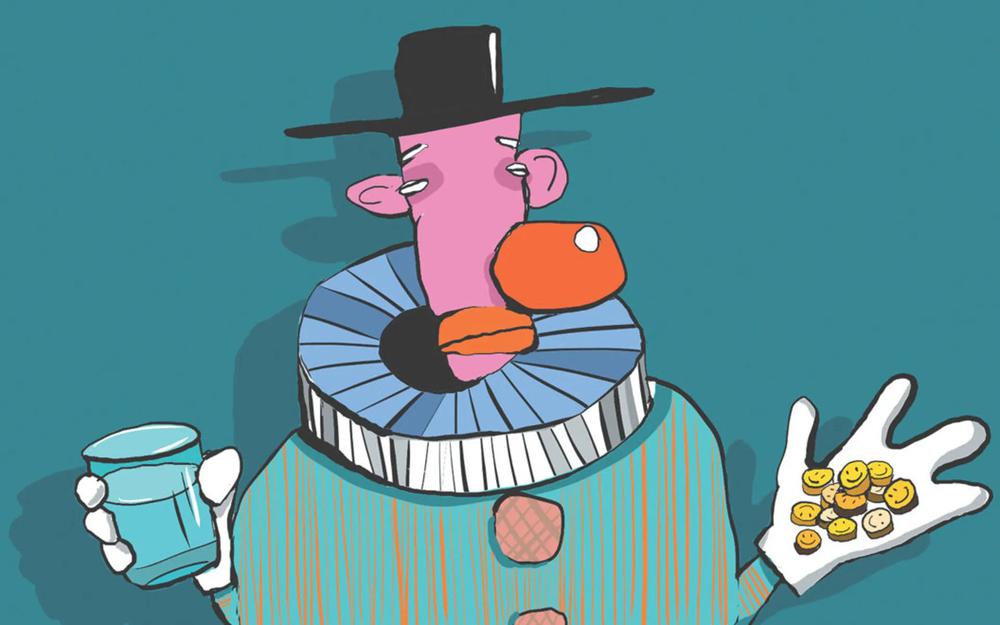На четырех углах главного перекрестка Гринвич-Виллидж стоит по одинаковому кафе, но мы, играя в Париж, выбрали себе любимое — «Борджиа». Несмотря на живописное имя, в нем не было ровно ничего особенного, во всяком случае до тех пор, пока мы не привели туда Довлатова. Он очаровал официанток, занял два стула и смеялся, ухая, как марсианин из Уэллса. Сидя в кафе до закрытия, мы говорили о своем, вернее — чужом, ибо больше всего Сергей любил цитировать, чаще всего — Достоевского. Довлатов истово верил, что в отечественной словесности нет книги смешнее «Бесов»:
«Попробуй я завещать мою кожу на барабан примерно в Акмолинский пехотный полк, с тем чтобы каждый день выбивать на нем перед полком русский национальный гимн, сочтут за либерализм, запретят мою кожу».
Надеясь разъяснить этот феномен, Сергей всех уговаривал написать диссертацию, но к тому времени я уже убедился, что юмор не поддается толкованию. Остроумию нельзя научить, шутку — растолковать, юмор — исследовать.
Правда, если много людей запереть в темном зале, то их можно заставить смеяться. Секрет этого фокуса открыл мне обаятельный Буба Касторский, который под именем этого популярного персонажа веселил русскую Америку, чрезвычайно похоже изображая Брежнева.
— Зрителю, — поучал он меня с высоты своего огромного опыта, — надо знать, когда смеяться, поэтому, доведя анекдот до соли, ты тормозишь, оглядываешь зал слева направо, потом — справа налево и, наконец, доносишь концовку — в сущности, все равно какую.
«Цезура перед кодой», — записал я для простоты, но так и не воспользовался советом, стесняясь смешить людей даже за деньги. Профессиональные юмористы казались мне отчаявшимися людьми, обреченными вымаливать смех, как несчастливые влюбленные — поцелуи. Иногда мы, слушатели, тоже сдаемся — из жалости, по слабости характера, но чаще — за компанию. В массе люди глупее, чем поодиночке, поэтому многих рассмешить проще, чем одного — собеседника, собутыльника, даже жену. Не зря в театре всегда смеются — и на Шекспире, и на Шатрове. Что говорить, в мое время смешным считался спектакль под названием «Затюканный апостол». Но настоящий юмор, как все ценное — от эрудиции до вокала, — идет из глубины.
— Голос, — говорят певицам в консерватории, — надо опирать на матку.
Писателям ею часто служит юмор.
Тогда, в «Борджиа», отдуваясь от скверного кофе, который мы заказывали, чтоб не гнали из-за стола, я научился у Довлатова мнительности остроумия. Подозревая в юморе каждую фразу классиков, я обнаружил, что все они пишут смешно, хотя это далеко не всегда заметно с первого взгляда.
Чем лучше спрятан юмор, тем сильней его воздействие. Серый кардинал книги, он исподтишка меняет ее структуру, добавляя лишнее — насмешливое — измерение. Текст с юмором действует не сразу, но наверняка. Уже поэтому юмор лучше всего принимать в гомеопатических дозах. Согласно адептам этого мистического учения, одна молекула может «заразить» собой ведро водопроводной воды, которая уже никогда не будет пресной. И в этом — прелесть целевого чтения. Нет радости больше той, что доставляет раскопанный юмор, — тот, что сам заметил, отряхнул от риторической пыли, натер до блеска и вернул на место, которое теперь уже никогда не забудешь. Я не помню своих автомобильных номеров, хотя и не менял их уже 30 лет, но все смешное, что прочел в жизни, держится в памяти, вроде татуировки.
Упустив шанс стать археологом, я вынужден сравнить поиски смешного с грибной охотой. Известно и где, и что, и когда, но потом находишь боровик у заплеванного порога дачного вокзала, и счастье навсегда с тобой.
Для меня Гончаров — вроде такого боровика. Гоголь — понятно, Чехов — тем более («старая дева пишет трактат «Трамвай благочестия»). Другое дело — одутловатый Гончаров. Он сам себя описал Обломовым: «Полный, с апатическим лицом, задумчивыми, как будто сонными, глазами». Гончаров так долго жил в наших краях, что главную на Рижском взморье дорогу при царе назвали его именем, но потом переименовали, дважды: сперва — за то, что был цензором, потом — за то, что был русским. Гончарова мучила зависть, он писал в кабинете, обитом пробкой, его раздражали шум и современники. Но есть у Гончарова очерк «Слуги старого времени», по которому русский язык преподавали викторианцам, соблазняя их вполне диккенсианским парадом эксцентриков.
Один из них, камердинер Валентин, составлял словарь «сенонимов» из однозвучных слов. В нем, рассказывает Гончаров, «рядом стояли: «эмансипация и констипация», далее «конституция и проституция», потом «тлетворный и нерукотворный», «нумизмат и кастрат».
Это живо напоминает прием, который мы когда-то называли «поливом»: семантика, взятая в заложники фонетикой, водоворот случайных ассоциаций, буйный поток приблизительной речи, свальный грех словаря. Сейчас я бы добавил — заумь рэпа. Его великим мастером был Веничка Ерофеев. Решив вслед за Вольтером возделывать свой сад, он вырастил в «Вальпургиевой ночи» диковинную словесную флору:
«Презумпция жеманная, Гольфштрим чечено-ингушский, Пленум придурковатый, Генсек бульбоносый! Пурпуровидные его сорта зовутся по-всякому: «Любовь не умеет шутить», «Гром победы раздавайся», «Крейсер Варяг» и «Сиськи набок».
Смешной эту полувнятную — но все же с диссидентским оттенком — бессмыслицу делает радость бунта. Восстав против тирании смысла, революционная речь сооружает баррикады, находя новое назначение прежним словам. Их скрепляет грамматика — и экстаз опьяневшего от свободы языка.
Своим любимым Ерофеев называл стихотворение Саши Черного, где есть такая строка: «Я люблю апельсины и все, что случайно рифмуется».
Камердинер Гончарова тоже любил стихи и тоже — за это:
«Если все понимать — так и читать не нужно: что тут занятного! То ли дело это:
Земли жиле-е-ц безвыходный —
Cтрада-а-нье,
Ему на ча-а-сть Cудьбы нас обрекли».
Понятно, почему Обломов ничего не читает. Об этом — в самом начале романа, где мы только знакомимся с героем. Квартира Обломова. Хозяин, естественно, лежит, но ему не дают покоя гости. Хуже всех литератор Пенкин: «Умоляю, прочтите одну вещь; готовится великолепная, можно сказать, поэма: «Любовь взяточника к падшей женщине». Обломов, который уже почти решился встать из постели, с облегчением падает на подушки: «Нет, Пенкин, я не стану читать». И дальше, потеряв интерес к разговору, Обломов, вырываясь из власти своего образа, с ужасом и жалостью думает о той писательской судьбе, которую выбрал его автор:
«Тратить мысль, душу, торговать умом и воображением, насиловать свою натуру. И все писать, как колесо, как машина: пиши завтра, пиши послезавтра; праздник придет, лето настанет — а он все пиши?»
Внимательным читателем этого внутреннего монолога стал молодой Беккет, которого друзья еще до войны прозвали Обломовым. Беккет редко говорил, и делал лишь то, без чего нельзя обойтись, отчего его книги становились все тоньше, а реплики все острее. «Нет ничего смешнее горя», — говорят в его пьесе «Эндшпиль». В ней пережившие апокалипсический кошмар герои устали даже отчаиваться. Им остается лишь уповать на небеса.
Хамм. Помолимся.
(Молятся.)
Хамм. Ну?
Клов. Ничего.
Хамм. Вот подлец. Его же не существует!
Смешно — и страшно, настолько, что даже английская цензура потребовала вырезать слова про Бога — не те, что обидные, а те, где говорится, что Его нет. Понимая цену отчаяния, Беккет оставил еле заметную надежду. После атеистической реплики Хамма: «Его же не существует» — Клов отвечает поразительным образом: «Пока еще». Всякая теологическая концепция опирается на прошлое или вечное, но Беккет вводит богословие будущего времени — двумя словами. Дерзость их так велика, что она (сам видел) взрывает зал хохотом: смех выражает восторг от прыжка веры в сторону. Беккет возводит юмор в куб с помощью трех «не»: невольное, непредсказуемое, неизбежное.
Такие перлы чаще рождаются в диалоге. Юмор, как армянское радио, любит отвечать на вопросы. Я подозреваю, что он для того и существует, чтобы найти выход из положения, когда выхода нет. В этот тупик, писал Бергсон, великий теоретик юмора, нас заводит инерция жизни: «Смешным является машинальная косность там, где хотелось бы видеть живую гибкость человека». Поступая автоматически, мы садимся не на стул, а на пол. Нам смешон дух, подведенный телом. Хайдеггер, говорят, засмеялся всего однажды: когда на Юнгере лопнули штаны. Подражая машине, особенно такой, как компьютер, мы и мыслим машинально — считая, как она, что все на свете делится на два.
Гений юмора в том, что он возвращает нам парадоксальную человечность и выводит к новому. В этом я вижу ответ на коренной вопрос: смеялся ли Иисус Христос? Нет — если судить по словам евангелистов. Да — если судить по его собственным.
Сам Христос, может, и не смеялся, но он острил, причем в те критические минуты, когда выбор между жизнью и смертью припирал Его к стенке. Завязший в традиции разум не дает нам ее преодолеть, юмор ее сносит, ибо он умеет сменить тему. (Поэтому не смеются фанатики — они никогда не меняют темы.)
В сущности, юмор — это решенный коан. Чтобы найти ответ на вопрос, его не имеющий, надо изменить того, кто спрашивает. Христос ставит его перед вызовом, столь трудным и важным, что с новой высоты прежние вопросы кажутся недостойными решения.
— Проблемы, — говорил Юнг, — не решают, над ними поднимаются.
Именно так, радикально сменив масштаб, поступил Христос — удачно пошутив, Он спас блудницу от казни: «Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось в нее камень».
Смешным я называю не все, что вызывает смех. В жизни мы смеемся всегда, в кино — редко, над книгой — в исключительных случаях, вроде того когда Джей уронил в Темзу свою рубашку, а оказалось, что она принадлежит Джорджу. Я тоже люблю такое и знаю, как это трудно. Второй раз даже у Джерома не получилось. Но юмор больше и глубже: он — знак неожиданности, очевидной и убедительной, как молния. Со смешным ведь тоже не спорят. Смех — резюме, неопровержимая точка, сокращающая прения.
Бродский считал, что стихи ускоряют мысль, но юмор — те же стихи. Смешное тоже нельзя пересказать, только — процитировать. От юмора тоже ждут не аргументов, а истины. И смех — тоже не от мира сего. Он проскакивает в щель сознания и берет внезапностью. Всякая неожиданность нас либо пугает, либо смешит. Одно связано с другим — мы веселимся от облегчения, уже от того, что перестали бояться.
Однако любая книга, включая телефонную, где бывают фамилии вроде моей и имена вроде Даздрапермы (Да Здравствует Первое Мая, находка Бахчаняна), кормится неожиданностями. Юмор делает их наглядными. Вот почему удачная шутка — неуместная. У юмора, собственно, и нет своего места, потому что он всегда вместо — вместо того, что нельзя сказать или даже крикнуть.
Не пороки и красота, не добродетель и зависть, а юмор умирает последним. Черный, как тень, он и следует за нами, как тень, — до конца. Когда студентом я писал свою первую работу, мне это еще не приходило в голову, но уже тогда моя брошюрка называлась «Черный юмор у протопопа Аввакума»: «Присланы к нам гостинцы, — цитировал я «Житие», — повесили на Мезени двух детей моих духовных». Много лет спустя, уже в Париже, выяснилось, что Синявский любил это место и часто вспоминал Аввакума в Мордовии.