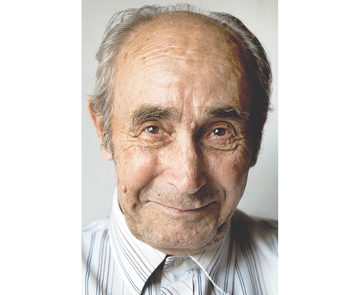 О «троцкистском диверсионном фашистском монастыре»
О «троцкистском диверсионном фашистском монастыре»
И меня, и моих родителей осудили по одной и той же 58-й статье. Моя мама до 1918 года была учительницей. Но потом она прочно уверовала в Бога и ушла из школы, заявила, что не хочет воспитывать детей атеистами, и стала частной портнихой. Меня она в школу тоже не пускала, учила сама. Муром тогда еще служил местом ссылки, среди ссыльных было много игумений закрытых монастырей, они меня и воспитывали.
Мама постоянно ходила в церковь и мечтала, что я стану священником. А я был очарован красотой богослужений: музыкой, пениями, одеждой, — участвовал в службах и всем этим жил.
Естественно, чекисты наблюдали за такими людьми, и когда в июле 1937 года понадобилось выполнять разнарядку Ежова и Сталина по арестам и расстрелам, маму взяли. Мне было 16 лет.
Маму забрали в августе, я был в деревне у родственников. Через неделю получаю телеграмму от ее брата Николая Ивановича: «Срочно приезжай. Мама больна». Дома я обнаружил полный разгром: вещи разбросаны, книги на полу. У мамы была большая библиотека, лучшие книги забрали чекисты. Взяли роскошно изданную серию «Вселенная и человечество», всю русскую литературу от Пушкина до Толстого.
Это было в августе, а в ноябре тройка присудила маме 10 лет лагерей, и ее отправили в отделение Карлага под Караганду. Тогда 10 лет было самым большим сроком, но я радовался, что ее не расстреляли, что она осталась жива.
В 1947 году мама должна была освободиться, но заболела раком и умерла в лагерной больнице. Срок кончился, но на свободу она так и не вышла. Ей было 49 лет.
В 90-е я познакомился с ее делом. Страшная в нем была формулировка: «участие в организации троцкистского диверсионного фашистского подпольного монастыря». В деле было зафиксировано, что мама воспитывала меня в антисоветском духе, готовила из меня священнослужителя и в ожидании нападения Гитлера на нашу страну обучала немецкому языку, чтобы я был переводчиком у оккупантов. По делу проходило 40 человек, 10 из них расстреляли, 30 получили десятку.
Отца арестовали почти одновременно с матерью. Еще в 25-м году они разошлись, отец с новой семьей жил в деревне около Мурома, заведовал сельской школой. Он был неверующим человеком и коммунистом, закончил четыре курса Петроградского университета, а потом ушел, потому что участвовал в революционном движении с эсерами. Я узнал об этом только после своего собственного ареста. Первым же вопросом следователя было: «А ты знаешь, что твой отец — эсер?» Это был страшный удар, эсеры для меня были враги.
Судьбу отца я долго не знал. Позже мне выдали справку, что он умер в 1942 году в лагере из-за отказа почек, — были такие ложные справки, предусмотренные инструкциями НКВД. В 90-е я начал рассылать запросы о его судьбе, ко мне в квартиру пришел сотрудник местного КГБ и сказал: «Должен сообщить вам горькую весть. Ваш отец расстрелян 8 сентября 1937 года». Никаких документов он не принес, я получил их только через несколько лет. Теперь у меня лежат две справки: одна — о том, что отец умер в 1942 году. Другая — что расстрелян в 1937-м.
О беспокойстве за демократию
После ареста мамы меня забрал к себе ее брат Николай Иванович. Если бы не он, меня бы отправили в детский дом для детей врагов народа. Он же устроил меня делопроизводителем в райпотребсоюз и в школу для взрослых. И я внезапно оказался в окружении своих ровесников.
Большинство были атеистами и комсомольцами, поэтому я тоже вступил в комсомол. Мы, те, кто интересовался не только водкой и девушками, начали тянуться друг к другу. Таких людей оказалось немало, а я отличался особой активностью: стал редактором стенгазеты, организовал в школе литературный, исторический, театральный и экономический кружок, где мы замахнулись на изучение «Капитала» Маркса. Уже в 14 лет я каждый день покупал «Правду» и «Известия». Веры в то, что там пишут, не было, я видел, что пропадают люди, и знал, что это не могут быть враги народа: директор школы, главврач поликлиники. Но была главная вера: советская власть — раз и навсегда, и все, что происходит — исчезновение людей, аресты, — искажение ленинской линии.
В наших кружках мы часто говорили довольно откровенно. Беспокоило нас, говоря современным языком, отсутствие демократии. За нами быстро установили слежку. А в 1939 году меня повесткой пригласили в муромское отделение НКВД. Со мной очень дружелюбно беседовал какой-то капитан, спрашивал, не замечал ли я каких-то антисоветских высказываний, не слышал ли политических анекдотов. Я пообещал, что немедленно приду к нему, если что-то такое услышу, и рассказал об этом друзьям. Но потом мы поняли, что некоторые из нашей компании на такое предложение согласились.
Когда в 1940 году я поступил в институт и переехал в Москву, я ясно ощутил, что мое дело передали из Мурома и слежка продолжается. Моим осведомителем, как я потом понял, был Стасик Леплевский — сын заместителя Вышинского. Его поселили в общежитии рядом со мной, и он сразу стал ко мне как-то тянуться, рассказал, что его отец расстрелян в 38-м году и, естественно, прокомментировал это. Когда потом следователь, заглядывая в бумажку, зачитывал, какую антисоветскую агитацию я вел, я узнал, что то, что говорил Стасик, вложено им в мои уста.
На Лубянке
22 июня 1941 года я сдал последний экзамен за первый курс, 23-го утром подал заявление с просьбой отправить меня на фронт и поехал в институт.
Днем вызывают меня к ректору. Захожу в кабинет, вижу: сидит человек с белым «яичком» на рукаве, два каких-то военных. Глянул на «яичко», и охватил меня ужас: «Боже мой, неужели меня арестовывают?!» «Яичко» это означало только что созданный Наркомат госбезопасности, который занимался самыми страшными государственными преступниками. И действительно, который с «яичком» предъявил мне бумажку: ордер на арест.
Отвезли меня в общежитие, перерыли мою койку и тумбочку, велели взять с собой вещи. Я говорю: «И зимнее пальто?» — «И зимнее пальто тоже». Беру простыню, связываю в один узел зимнее пальто, теплые ботинки, костюм, в котором на лекции ходил. И со всем этим везут меня на Лубянку.
Лубянка! Это был символ, это здание внушало страх. Мы, как и все, с опаской проходили мимо. И вот я оказался в самом его центре.
Первая камера была треугольной. Ни сесть, ни лечь, можно только стоять. И я стоял. Сколько — не знаю, часов у меня не было, и с тех пор время для меня измерялось только условно. А потом начался допрос.
Следователь оказался строгий, ежовского вида. Спрашивает: «Вы такое говорили?» Я: «Говорил». Я старался быть честным перед советской властью, которой верил. И то, что я высказывал критические суждения, с самого начала не отрицал.
Обвинение мне предъявили почти такое же, как у отца и матери: «Создание в городе Муроме молодежной антисоветской террористической фашистской группы». Сижу и думаю: отец эсер, мать сидит, я организатор террористической группы — куда дальше-то? Лубянка, одиночная камера, то, как следователь задавал мне вопросы и формулировал мои преступления, — все говорило, что я страшный преступник. И стал я готовиться к расстрелу.
Антисоветский Маркс
В материалах следствия особо отмечалось, что на экономическом кружке мы читали «Капитал» Маркса. К тому времени сталинская элита уже понимала, что практика строительства социализма в нашей стране с «Капиталом» не совпадает, и даже в институтах читали только курс политэкономии, без первоисточника. Так что чтение Маркса мне засчитали как антисоветскую деятельность.
На допросах меня не били, только несколько раз дали по зубам. Я был мелкой сошкой, к таким особые методы не применяли. Удивления от того, что я, двадцатилетний студент, — глава террористической организации, у меня не было. Мы знали, что тот же Аркадий Гайдар в 16 лет командовал полком, и полностью брали на себя ответственность за свои поступки.
После допроса меня перевели в другую камеру. Проходит какое-то время, открывается окошко в двери и ставят миску с винегретом. До сих пор помню красноватую свеклу. Тогда я о еде даже думать не мог, а через несколько дней понял: надо было есть, ведь теперь о такой миске можно только мечтать.
Через неделю вызывают меня с вещами, сажают в «черный ворон» и везут, как я потом понял, в знаменитую «Таганку». Открывают камеру — и я вижу муравейник: огромная комната, с обеих сторон нары, одно зарешеченное окошечко, и везде, даже на полу — люди. Еле нахожу себе место на полу, раскладываю вместо матраса зимнее пальто. Ну, думаю, если отпустили с Лубянки — значит, не расстреляют. И действительно: через несколько дней везут меня на железную дорогу и отправляют в телячьем вагоне, тоже битком набитом, куда-то в Сибирь. Довезли до Омска и заключили в Екатерининскую тюрьму. И там 11 месяцев продолжалось следствие, начатое на Лубянке.
5 мая уже 1942 года вызывают меня, протягивают бумажку. Читаю: «Постановление особого совещания: студенту первого курса Щеглову за антисоветскую агитацию по статье 58.10 — пять лет исправительно-трудовых работ и три года поражения в правах». Вот и весь мой приговор.
Ну я обрадовался: следователь-то меня уверял, что меньше десятки не дадут, и «будь благодарен, что жизнь тебе спасли».
Спасать Родину
Из Красноярска в Дудинку нас везли в трюме парохода «Иосиф Сталин». Командовали там уголовники. Меня обокрали, взяли все, что было с собой. Но самое страшное — пайки с хлебом мы должны были распределять сами, каждому полагалось по 350 граммов в день и раз в сутки — баланда. Уголовники распределяли все это между собой, и многие оставались голодными, в том числе и я. Одели нас в так называемое обмундирование третьего срока. Все зашитое, заплатанное: штаны ватные, телогрейка, бушлат с дырами и ЧТЗ, «Челябинский тракторный завод»: башмаки, у которых вместо подошвы кусок транспортерной ленты.
Срок я отбывал в Норильлаге, на строительстве Норильского медно-никелевого комбината. Естественно, меня распределили на общие работы, то есть долбить скалу, которую не брали ни лом, ни кайло. Чтобы получить 600 граммов хлеба в сутки, надо было выполнить норму, а выполнить ее было невозможно, потому что я пришел в лагерь после 13 месяцев тюрьмы, где постепенно слабел, и, конечно, погиб бы.
К счастью, я был грамотным, окончил первый курс инс¬титута — тогда таких людей было мало, — и через год меня сделали сначала табельщиком на той же стройке, где я котлованы долбил, а потом перевели в лабораторию при заводе.
Начальник Норильлага Завенягин всегда способствовал тому, чтобы инженер работал инженером, а не землекопом. За это его уважали. Я оказался среди исследователей, увлекся этим. К марту 1946 года, когда освободился, я уже три года работал в лаборатории оксиликвидного завода, разрабатывал взрывчатку.
К работе мы относились добросовестно. Мы понимали, что строится такой великий промышленный комплекс, что надо Родину от Гитлера спасать. Постоянно писали заявления с просьбами отправить нас на фронт. На них, конечно, никто не отвечал.
Уже через много лет я встретил моего однокурсника. По его рассказам, большинство нашей группы, все, кто подал заявление на фронт, попали в ополчение и погибли при обороне Москвы. Такова была бы и моя судьба, если б не лагерь.
Новый 37-й
Когда освободился, я, как и все, подписал бумагу, что остаюсь на той же должности как вольнонаемный. В те годы по всему ГУЛАГу действовало распоряжение Наркомата внутренних дел закреплять освободившихся заключенных по месту выхода из лагеря. Норильск был напичкан такими людьми.
Я продолжал работать на том же заводе, в той же лаборатории. Внешне в моей жизни ничего не изменилось, единственное — я стал получать зарплату и ходил с работы не на зону через охрану и обыски, а в свою комнатушку (скоро я стал заведующим лабораторией и жил в ней же на диване), мог передвигаться по Норильску. Выехать из города я не мог.
А к 1947 году стало понятно, что 37-й год возвращается. Освободившихся из лагеря по 58-й статье стали возвращать туда или отправлять в ссылку. Из Норильска людей выселяли в тайгу. А когда пережил 10 лет бараков, идти в тайгу было очень страшно.
Мы тогда познакомились с Ниной, она работала в лагерной газете. В 1947 году спрашиваю ее: «Ты согласна, чтобы мы зарегистрировали брак? Ты же понимаешь, что завтра меня могут арестовать снова и отправить в лагерь?» Она сказала: «А мне все равно. Я буду с тобой».
Дуся
С Дусей мы познакомились задолго до Нины, она из Мурома. Это была такая любовь… Дуся была участницей нашего кружка. Ее не арестовали, но допрашивали. И она, можно сказать, спасла меня и других от расстрела.
В Муроме мы выпускали рукописный журнал, тетрадки под названием «Фитиль», где публиковали свои критические рассказы, зарисовки, мои стихи, посвященные Кирову. Если бы это увидели следователи — нам всем был бы конец. Но я уже ждал ареста и перед отъездом в Москву вместе с товарищем спрятал эти тетрадки и компрометирующие нас документы у него в деревне. Когда меня арестовали, Дуся поехала туда, залезла в подпол, достала ящик с тетрадками и на огороде сожгла все. Следователь упорно добивался: какой журнал вы выпускали? «Фонарь»? Но так и не выяснил.
Когда меня арестовали, я не хотел связывать кого-то со своей несчастной судьбой и из лагеря ей не писал. А как только освободился, написал: «Приезжай сюда в Норильск». Дуся мне пишет: «Не могу». Оказывается, она вышла замуж, когда я уже должен был освободиться.