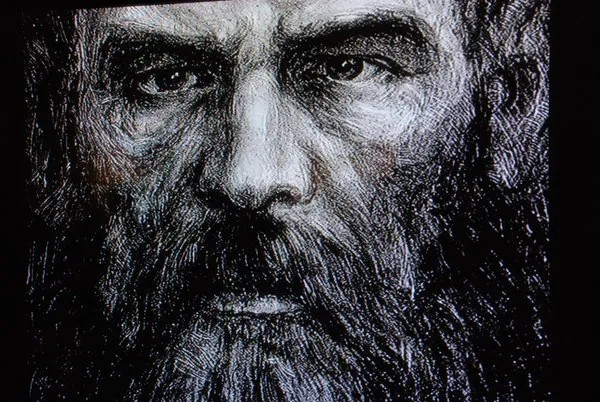
3 января 1996 г. Среда.Перечитывая «Бобок» Достоевского («Дневник писателя».VI. «Гражданин», 1873, № 6).
Лежбище гранитов гробовых,
Принцев уравниловка и нищих.
И на расколдованных кладбúщах
Мёртвые судачат о живых.
P.S. 10 ноября 2011 г. Четверг. Какая недовысказанность живых при жизни звучит в этом – наперебой! – разговоре мёртвых, пусть даже в фантасмагорической форме! Какое стремление самого Достоевского вырваться из узких для гения рамок человеческого бытия и небытия! Как тесно его духовной вселенной в несовершенной физической оболочке, которой одарила его природа (или, в его личном мировосприятии, -- Бог)!
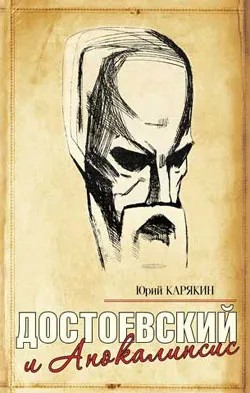
Вот написал тогда: «перечитывая», а теперь усмехаюсь. Все так говорят о классике, когда на самом деле читают впервые. Но я-то действительно читал это много-много раз. И тогда, в 96-м, перечитывал по растрёпанному тому собрания сочинений из нашей домашней библиотеки, изданному ещё в XIX веке. И потом перечитывал. Не в силу душевной предрасположенности, как, например, многократно перечитывал любимые мною у Достоевского «Белые ночи» и Пушкинскую речь. А из-за некой мистической загадки, которая в этом «Бобке» запрограммирована и которую всё силится разгадать мой (да и только ли мой?) мозг «во дни сомнений, во дни тягостных раздумий» не столько, может быть, «о судьбах моей родины», если по Тургеневу, сколько о судьбе человеческой души на этой самой родине, если по Достоевскому.
Впервые открывал его для себя вскоре после войны – по огромному тому. Выходили тогда такие солидные, толстенные, прекрасно изданные, отпечатанные на хорошей бумаге где-то в советской зоне оккупации Германии фолианты наших классиков. Да, тогда его уже называли великим русским писателем (впрочем, иначе никогда и не называли), но при этом ещё и мракобесом и реакционером, а Алексей Максимыч – на более высоком и интеллигентном уровне – больной нашей совестью, что само по себе – правда. Но мы-то его читали сами, не заглядывая перед этим в «протоколы» тогдашних критических «судов Линча» над Достоевским. И делать нам это никто не запрещал, как полагают ныне некоторые иваны от журналистики, не помнящие родства.
Такой эпизод. Нам в школе задали домашнее сочинение: о книге, которую прочёл последней. А у меня как раз это было «Преступление и наказание». Какие уж возникали по этому поводу мысли, не помню. Но явно не очень-то согласующиеся с тогдашними образовательными стандартами. Однако пятёрку мне всё-таки поставили. Без каких-либо обвинений в инакомыслии и нездоровом интересе к достоевщине (бытовал и такой «литературоведческий» термин).
Но вернусь к перечитыванию «Бобка». Для меня он каким-то странным, но неотвратимым образом перекликается с одним местом из «Села Степанчикова и его обитателей». Впрочем, почему странным? Доминирующие думы Достоевского проходят ведь, созревая, густея, через всё его творчество, через все, очень разные романы, повести, дневниковые записи.
У Льва Толстого взаимодействие человека и природы – это не взаимодействие двух равноценных миров. Поздно зазеленевший дуб выражает тогдашнее душевное состояние князя Андрея, ради этого он и нужен в «Войне и мире», а вовсе не для того, чтобы сказать: жизнь этого дуба остаётся чем-то объективно ценным и сама по себе, со своими внутренними формами и законами, отличными от наших, человеческих.
А вот у Достоевского очеловечивание окрестного мира (когда, например, дядюшка в «Селе Степанчикове» говорит: «Ведь подумаешь, что и деревья понимают тоже что-нибудь про себя, чувствуют и наслаждаются жизнью… Неужели ж нет…») – это не только расширение вселенной самого человека. Дядюшка признаёт право деревьев на свою, особую жизнь. Хотя сказано так, что сразу очевидно: это он-то своим отношением их «оживляет» и одухотворяет.
И, может быть, не столько дядюшка, литературный персонаж, сколько сам Достоевский. Он всё время как бы стремится расширить свою личностную вселенную в окрестную вселенную природы и других людей, проникнуть в неё, как металл проникает в другой металл при тесном соприкосновении под большим давлением – чем дольше, тем глубже взаимопроникновение. Но это не поглощение других миров миром собственного «я». Это удвоение, утроение, умножение миров. Почему так?
Вселенная гения настолько сжата в себе до фантастического, внеземного удельного веса, что и не может – под гигантским внутренним самодавлением – не расширяться до размеров вселенной внешней. Расширяется она не тем, что поглощает в себя другие, чужие духовные миры, а тем, что признаёт сами эти миры, будь то жизнь дерева, зверя или человека, за новые, самоценные духовные вселенные, тем самым действительно удваивая, утраивая, умножая до бесконечнсти вселенную своего, личного духовного мира…
Порой это происходит на грани разных «погодных» фронтов. Порой с акварельной чуткостью и даже нежностью к окрестному внешнему миру. Как в тех же «Белых ночах», в восприятии героем пустынного Петербурга, его каналов, его домов:
«Мне также и дома знакомы. Когда я иду, каждый как будто забегает вперёд меня на улицу, глядит на меня во все окна и чуть не говорит: «здравствуйте; как ваше здоровье? И я слава богу здоров, а ко мне в мае месяце прибавят этаж». Или: «я чуть не сгорел и при том испугался» и т. д. Из них у меня есть любимцы, есть короткие приятели, один из них намерен лечиться это лето у архитектора. Нарочно буду заходить каждый день, чтобы не залечили как-нибудь, сохрани его господи… Но никогда не забуду истории с одним прехорошеньким светло-розовым домиком. Это был такой маленький домик, так приветливо смотрел на меня, так горделиво смотрел на своих неуклюжих соседей, что моё сердце радовалось, когда мне случалось проходить мимо. Вдруг, на прошлой неделе, я прохожу по улице и как посмотрел на приятеля – слышу жалобный крик: «а меня красят в жёлтую краску!»
Злодеи, варвары! Они не пожалели ничего: ни колонн, ни карнизов, и мой приятель пожелтел, как канарейка. У меня чуть не разлилась желчь по этому случаю, и я ещё до сих пор не в силах был повидаться с изуродованным моим бедняком…»
Мерцающая, призрачная печаль белой петербургской ночи… И – глубокое, безысходное одиночество, когда человеку и поговорить-то не с кем, кроме как с домами. Сами дома безлюдны. Хозяев, может, просто и нет. На дачи, положим, выехали. Но у каждого дома – душа. Своя? Да, конечно, своя. Но в том-то и дело, что не только своя – придуманного героя тоже, а скорее всего -- самого писателя. Ибо, конечно же, такого умножения нет без самого человека, без самого писателя. Его личность в данном случае – катализатор преумножения духовности в мире. И этой одной человеческой личности, одной души хватило, чтобы заселить, одухотворить целый город, который не совпадает с глянцево-открыточной второй столицей России, но тем не менее реально живёт в миллионах других человеческих душ, и в моей тоже -- Петербург Достоевского. Город - вселенная. Как и всё другое, с чем соприкасается душа гения, становится отдельной вселенной.
Ну а если она соприкасается с душой другого гения? Тогда на небосклоне нашей жизни вспыхивает двойная звезда, например звезда «Пушкин – Достоевский», как это случилось при открытии московского памятника поэту. Когда Достоевский в речи, прочитанной в тот день, схватывает в глубине и выносит на свет божий внутреннюю связь между Алеко и Евгением Онегиным и изрекает пророческую мысль о русском скитальце, которому «необходимо именно всемирное счастие, чтоб успокоиться: дешевле он не примирится», его, Достоевского, мучит собственная дума, пронизывающая и «Преступление и наказание», и «Бесов», и «Братьев Карамазовых». О том, стоит ли эта идея всемирного счастья, торжества справедливости и законности хотя бы одной человеческой жизни, одной детской слезы. Ведь никто, кроме Достоевского, не посмотрел на гибель Ленского как на кровавый след в судьбе Онегина. Да, во всём его творчестве, во всём мировосприятии – и в восприятии Пушкина тоже – колеблются чаши весов. На одной – мировые концепции всечеловеческого счастья, на другой – всего лишь одна капля крови, всего одна слеза ребёнка. И вторая чаша перевешивает.
Достоевский сделал в словесности то, что сделали Лобачевский в математике и Эйнштейн в физике: перевёл её из трёхмерного пространства в n-мерное.
Пожалуй, не было в мировой культуре ни одной сколько-нибудь значительной личности, которая не испробовала себя кто на ниве достоевсковедения, кто – достоевскоедения. Вспоминаю свою давнюю беседу с одним из классиков философии ХХ века Полем Рикёром на Всемирном философском конгрессе в Москве. Он назвал Достоевского самым великим русским философом, и когда я спросил, часто ли он его перечитывает, ответил: «Единственная книга, которую я взял с собой на конгресс, «Братья Карамазовы». Но всё же из всего, что написано о Достоевском у нас и в мире, ближе всего к истине оказался Михаил Бахтин. Он первый понял, что Достоевский открыл совершенно новый, полифонический тип художественного мышления, «создал как бы новую художественную модель мира»:
«Не множество характеров и судеб в едином объективном мире в свете единого авторского сознания развёртывается в его произведениях, но именномножественность равноправных сознаний с их мирамисочетается здесь, сохраняя свою неслиянность, в единстве некоторого события».
В связи с этим Бахтин прямо ссылается на Эйнштейна (правда, оговариваясь, что «сопоставление мира Достоевского с миром Эйнштейна – это только сравнение художественного типа, а не научная аналогия»): «Как бы разные системы отсчёта объединяются здесь в сложном единстве эйнштейновской вселенной».
Ну а в финале «Проблем поэтики Достоевского» -- уже безо всяких оговорок:
«Научноесознание современного человека научилось ориентироваться в сложных условиях «вероятной вселенной», не смущается никакими «неопределённостями», а умеет их учитывать и рассчитывать. Этому сознанию давно уже стал привычен эйнштейновский мир с его множественностью систем отсчёта и т. п. Но в областихудожественногопознания продолжают иногда требовать самой грубой, самой примитивной определённости, которая заведомо не может быть истинной.
Необходимо отрешиться от монологических навыков, чтобы освоиться в той новой художественной сфере, которую открыл Достоевский, и ориентироваться в той несравненно более сложнойхудожественной модели мира,которую он создал».
Впрочем, что сопоставление у Бахтина этих двух гениальных личностных духовных миров не является «только сравнением художественного типа», подтверждает глубокий интерес и самого Эйнштейна к творчеству Достоевского. Помните его знаменитое: «Достоевский даёт мне больше, чем любой мыслитель, больше, чем Гаусс!»?
В то же время, думается мне, Бахтин не совсем прав, когда не соглашается с Леонидом Гроссманом, считавшим «вихревую композицию» важной особенностью романов Достоевского:
«…едва ли вихревое движение событий, как бы оно нибыло мощно, и единство философского замысла, как бы он ни был глубок, достаточны для разрешения той сложнейшей и противоречивейшей композиционной задачи, которую так остро и наглядно сформулировал Л. Гроссман. Что касается вихревого движения, то здесь с Достоевским может поспорить самый пошлый современный кинороман. Единство же философского замысла само по себе, как таковое, не может служить последней основой художественного единства».
Имеется в виду следующее утверждение в «Поэтике Достоевского» Л. Гроссмана: «…основной принцип его романической композиции: подчинить полярно не совместимые элементы повествования единству философского замысла и вихревому движению событий».
Понять Бахтина можно. Его проникновение в сокровенные философские и художественно-композиционные кладези Достоевского куда более объёмное, глубинное, чем у Л. Гроссмана и многих других его современников. И всё же у последнего, а особенно у более поздних отечественных исследователей и толкователей того, о чём писал и даже думал болезный Фёдор Михайлович, немало собственных, самоценных открытий.
Вряд ли «любой пошлый современный кинороман» может на самом деле поспорить с гениальной вихревой композицией «Бесов». Ибо она неотделимо срослась именно с философским узлом, завязываемым (или развязываемым?) здесь писателем, чего исходно, заведомо нет в этих самых «пошлых современных кинороманах».
Архитектоника «Бесов» далека и от той античной композиционной стройности, коими отмечена проза Пушкина и Лермонтова, и от того свободного разрастания образной ткани в купольные широкошумные кроны высоких вековых дерев, чему уподобил бы я архитектурные своды «Войны и мира» и «Анны Карениной».
В архитектонике «Бесов» нет, собственно говоря, никакой архитектоники, никакой музыки, застывшей в камне. В ней – музыка бесовской, завьюжившей, закружившей весь мир метели. Второй эпиграф к роману – из Евангелия от Луки – очевидно обнажает заглавную мысль писателя и даже акцентирует её, повторяя евангельскую цитату в тексте, на страницах, предшествующих смерти Степана Тимофеевича и имеющих ключевое значение для понимания авторской позиции. Но есть ещё другой, первый эпиграф:
«Хоть убей, следа не видно,
Сбились мы, что делать нам?
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.
……………………………….
Сколько их, куда их гонят,
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают?»
Ну, конечно, Пушкин. Конечно, его «Бесы». Ключ к имени романа. Это – на поверхности. Но – копни глубже, и вдруг поймёшь: эти четверостишья до рези в глазах точно, сфокусированно высвечивают всё то наважденье, которое творится на страницах романа.
В чернобыльской трагедии одной из наиболее трудно преодолимых бед стала летучая концентрация радиации. Там, где её ещё полчаса назад вообще не было, ветер может свить её смертоносное гнездо. А ещё через полчаса на том же месте опять ничего не будет. Вот это и есть композиция «Бесов», где во вьюжной круговерти сюжета зло, бесовщина непредсказуемо концентрируются то здесь, то там и в домашних очагах, и в душах, чтобы назавтра распасться во прах, а послезавтра снова сгуститься в новую спираль вселенской вьюги, порождающей вселенское зло.
«Бесы» -- пророческий роман о круговой поруке бездуховной стадности, толкающей человека на любое преступление или молчаливое согласие с ним.
«Каждый принадлежит всем, а все каждому. Все рабы и в рабстве равны. В крайних случаях клевета и убийство, а главное – равенство. Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов. Высокий уровень наук и талантов доступен только высшим способностям, не надо высших способностей <…> В стаде должно быть равенство».
Нет, это не потаённый символ веры нынешних «модернизаторов» российской традиции образования и просвещения, складывавшейся веками, чуть ли не с петровских времен.
Это Пётр Верховенский – о теоретических изысканиях другого героя «Бесов» -- Шигалева. И это самое страшное, как и та лёгкость, с которой у нас в 30-е годы ХХ века на митингах и собраниях, толпой благославляли власть на политические убийства. И далеко ведь не всегда под давлением страха. Чаще даже – под давлением стадно понятого гражданского долга.
В романе на малой временнóй площади скапливается, взаимопроникает сразу несколько сюжетов, завязок, кульминаций и развязок. Кульминация вдруг взрывается сразу же в начале, вскоре после неторопливого развёртывания экспозиции, в момент появления молодых Верховенского и Ставрогина. Пощёчина Николаю Ставрогину – что это: завязка или кульминационный взрыв? Скорее – последнее.
Но потом, на протяжении всего романа, такие кульминационные взрывы следуют один за другим. И так – до самого конца, до самоубийства Ставрогина. Более того – это, оказывается, ещё не конец. Потому что есть ещё не включавшаяся ранее в канонический текст «Бесов» (в последних изданиях эта несправедливость исправлена) глава «У Тихона». А в ней – кульминация всех кульминаций.
Ничего подобного не было ни в теории, ни в практике построения и российской, и мировой классической прозы. Это смущало и даже шокировало самых тонких ценителей. Хотя они и понимали (чувствовали, во всяком случае), что перед ними – творение гения, тем не менее им представлялось, что Достоевский творит не по правилам, против правил, смешивая жанры и сюжеты, втискивая в один роман сразу несколько, по крайней мере.
Словом, не так уж однозначна у Достоевского эта винтовая, вихревая композиция. Тем в большей степени это относится и к единству философского замысла.
К пониманию этого противоречивого единства с двух разных сторон ближе всего подошли, по-моему, двое из наших духовных поводырей. Оркестрованный верой в Бога ум Сергея Булгакова прежде всего выделял в мировоззренческой доминанте писателя библейское начало, Голгофу в его сердце. Это особенно явственно в его киевской речи на вечере памяти Достоевского 25 февраля 1906 года:
«Слышать и понимать, а следовательно и разделять, и нести на себе все скорби и грехи всего мира есть дело Бога, и мы приближаемся здесь к страшной тайне Гефсиманской ночи, кровавого борения и пота. Но к священной ограде Гефсиманского сада, из которого есть только один путь – на Голгофу, приближается всякий в меру своего страдания за других, бескорыстной, самоотверженной скорби боли за человека. И близко, ближе многих других, подошёл к ней Достоевский, и это-то и почувствовала в нём своими неокаменевшими ещё сердцами молодёжь. Достоевского, <…> «жестокий талант» которого мучит этой своей мукой, исторгает слёзы, жжёт своим огнём, этого Достоевского не в состоянии искренно отвергнуть человек, он может от него заслониться, не допустить его до своего сознания, но святыни этого человеческого страдания и любви к человеку он не может сознательно отвергнуть, как не может сознательно отвергнуть Того, Кто мучился за людей и молился во тьме Гефсиманского сада. И Голгофа, которая была в сердце у Достоевского, крест, который был в нём воздвигнут, вот что повелительно склоняет нас перед Достоевским».
А вот Виссарион Белинский, центральная, по определению Тургенева, фигура в духовной жизни 30-40 годов позапрошлого века, вообще первым открыл в Достоевском и для своих современников, и для нас, ещё не родившихся, по существу, то же самое, но с другой, реалистической, социально-житейской стороны, написав о самой первой опубликованной повести Достоевского «Бедные люди»: «Честь и слава молодому поэту, муза которого любит людей на чердаках и в подвалах и говорит о них обитателям различных палат: «Ведь это тоже люди, ваши братья!»
Вряд ли, правда, Достоевскому не претила та неистовая энергия, с которой Белинский стремился увлечь его под знамёна «натуральной школы» -- даже молодой, до «казни» (между прочим, одним из обвинений, предъявленных ему на процессе петрашевцев, было публичное чтение письма Белинского к Гоголю), Достоевский был, всё-таки, шире любых социальных, эстетических, этических рамок, до которых и тогда, и позже его пытались сузить многие.
Впрочем, позже, уже в «Дневнике писателя», он оставит строки «с выражением любви и признательности к кумирам юности» -- Ж. Санд и Белинскому. И в зрелых дневниковых записях окажется весьма созвучен именно Белинскому:
«Я никогда не мог понять мысли, что лишь одна десятая доля людей должна получать высшее развитие, а остальные девять десятых должны лишь послужить к тому лишь материалом и средством, а сами оставаться во мраке».
И всё же ни Белинский, ни С.Булгаков не выражали истину о Достоевском во всей её полноте, во всей вершинности. Ибо в своих отношениях и с христианским вероучением, и с демократическим вектором интеллектуального саморазвития русской жизни Достоевский всегда был сам по себе, сам собой. Был личностью. Был расширяющейся и множащейся вселенной, которую, несмотря ни на какие «надо бы», пока не удалось «сузить» никому. Даже самому Достоевскому.
Сегодня изучение его влияния на духовные искания человека, людских сообществ, да и всего современного человечества достигло у нас, может быть, своего экстремума в работах прежде всего Юрия Карякина (читайте «Достоевский и апокалипсис»!), Людмилы Сараскиной (только что вышла её книга в ЖЗЛ, уже третья о Достоевском в этой серии – разных авторов; видать, даже не столь отдалённые от нас, но всё же разные времена требуют своего осмысления его творчества, его личности, его судьбы, и прижизненной, и посмертной), Игоря Волгина, Карена Степаняна, Татьяны Касаткиной, других исследователей. Но я вспоминаю, каким откровением стало для меня ещё в перестроечные годы первое знакомство с такими вот строками Карякина:
«Да здравствует солнце, да скроется тьма!» -- под этими пушкинскими словами стоит подпись и Достоевского <…>. И нельзя же выдернуть из текста этого одно словечко – «тьма», да ещё с восклицательным знаком, да ещё прочитать весь текст так: «Да здравствует тьма!» Другое дело (и труднейшее), что мало кому солнце доставалось так дорого, как Достоевскому. Разве ещё Гойе <…>.
Чем могущественнее было жизнелюбие, жизнетворчество Достоевского, тем более чутким становился он и к смертельным опасностям для рода человеческого. И наоборот: чем очевиднее, ближе, страшнее становились эти опасности, тем больше находил он в себе и в людях, тем неистовее искал силы спасительные, силы спасительные, силы сопротивления смерти.
Потому-то он один из самых мужественных людей в истории человечества, не признающий безвыходных ситуаций. Он не только гений предупреждения о смертельных опасностях, но и гений преодоления их, гений выхода, а не тупика».
Врезалось в память и то, что говорила Людмила Сараскина в десятилетней давности беседе с Леной Дьяковой на страницах нашей газеты:
«И пока Раскольников занят только собой и один идет на дело, — это «Преступление и наказание». А когда пять Раскольниковых объединяются в группу и решают, что процентщицу можно убить во благо угнетенного народа, — это уже «Бесы». А потом мир грязных денег и мерзких обстоятельств губит всякого чистого человека, в него попадающего, — и это уже «Идиот». И вот мы по-прежнему живем в атмосфере Достоевского. Я не вижу, чтобы шло какое-то социально-психологическое выравнивание. К сожалению. Мне, наверное, хотелось бы, чтоб Достоевский с этой точки зрения оказался писателем, принадлежащим уже к истории литературы. Я была бы счастлива… Это значило бы, что Россия выздоровела. Что Россия усвоила уроки Достоевского. А она их не усваивает».
Тогда было 180-летие Достоевского. Нынче —190-летие. Конечно, будут научные конференции и торжественные вечера. Телеканал «Культура» в своей программе «Academia» приурочил к событию спецкурс по Достоевскому, который проводят первые лица нашего сегодняшнего достоевсковедения (Игорь Волгин – об «Игроке» и «Преступлении и наказании», Людмила Сараскина – о «Бесах», Татьяна Касаткина – о «Братьях Карамазовых», Владимир Захаров – об «Идиоте»). Но — если по большому, гамбургскому счету -- что изменилось за десять лет? Усвоили мы, наконец, уроки гениального соотечественника? Или?.. У меня нет прямого ответа на этот вопрос.