

Доказательная медицина — это новая концепция медицины, которая основана на том, что принятие конкретных решений в отношении лечения больного должно базироваться на доказательствах эффективности и безопасности существующих методов лечения, полученных в ходе клинических исследований. Сегодня доказательная медицина служит мотором совершенствования клинической практики, на Западе она внедрена во все сферы медицинской деятельности.
Одним из основоположников доказательной медицины был профессор Арчи Кохрейн, который еще в середине XX века задумался о том, насколько в действительности эффективны известные в то время методы лечения инфекционных заболеваний. Дело в том, что, когда мы даем пациенту какое-то лекарство и ему становится лучше, это не всегда связано с действием лекарства per se*. Примерно в трети случаев его эффект определяется «чудодейственной» силой плацебо. По сути, одним из видов плацебо-терапии служит гомеопатия. Но конечно, прошедшие проверку в ходе серьезных исследований лекарственные препараты действуют значительно эффективнее.

Карты открываются только после того, как больные в обеих группах прошли полный курс лечения. На следующем этапе происходит статистическая обработка. И только с помощью применения четких статистических критериев и анализа большого числа наблюдений можно доказать, что новое лекарство эффективно.
Этот метод часто критикуется с самых разных позиций, однако у нас нет никакого другого инструмента для оценки реальной эффективности и безопасности лечения.
А теперь рассмотрим ситуацию с точки зрения человека, пришедшего в аптеку за безрецептурным препаратом. Как ему отличить препараты, прошедшие такие клинические исследования? Здесь надо учитывать следующее. Сегодня фармакология идет двумя путями: первый путь — это выпуск так называемых биологически активных добавок, которые не проходят клинические исследования, и, как правило, большинство из них не работает. Как практикующему врачу, мне трудно ответить, почему они находятся в аптеке. Конкретный пример — это созданные с благими целями поливитамины. Одна из центральных догм современной медицины заключается в том, что если в организме чего-то очень важного не хватает и вы это приносите извне, далеко не всегда это может повысить уровень здоровья.
Масса исследований, которые были опубликованы в наиболее авторитетных журналах (таких как Circulation, New England Journal Of Medicine и пр.), показали, что длительное применение поливитаминов не только не приводит к улучшению каких-то параметров в нашем организме, но, вероятно, и связано с ростом риска развития инфарктов и некоторых видов онкологических заболеваний. Но люди по непонятным многим врачам причинам продолжают их покупать.
И вторая стезя — это производство лекарственных препаратов, разработанных крупными фармацевтическими компаниями, которые лицензируются и проходят серьезные клинические исследования. О том, каким из них можно доверять, должен знать ваш лечащий врач: данные о реальной эффективности практически каждой таблетки можно найти в специализированных медицинских поисковиках.
Итак, придя в аптеку, вы видите массу препаратов, и вам кажется, что ими можно вылечить большинство заболеваний. Но на самом деле в последнее время было создано не так много действительно эффективных лекарственных средств. Для того чтобы эффективный препарат начали разрабатывать, должно быть сочетание нескольких факторов:
— социальная значимость заболевания;
— известные молекулярные механизмы его развития;
— материальные возможности по созданию лекарства, включая подходящие биологические модели и методики синтеза, которые можно использовать в промышленном масштабе.
Есть несколько концепций создания лекарственных препаратов. Первое — это разработка так называемого индивидуализированного или персонализированного лечения. Рассмотрим этот процесс на наиболее ярком примере орфанных препаратов, эксклюзивных средств для лечения ряда редких заболеваний. Их начинают создавать, либо когда ученый вдруг понимает, что биохимический или генетический дефект, с которым связана болезнь, достаточно просто компенсировать, либо когда страдания малочисленной группы пациентов слишком сильны, что сподвигает их близких или сочувствующих вкладывать в разработку лечения средства, которые навряд ли когда-нибудь принесут дивиденды, но сохранят жизни. После этого собирается группа исследователей, и они разрабатывают прицельное лекарство, которое бьет точно по одной-единственной мишени. Как правило, это либо синтез вещества, которое заменяет что-то недостающее в организме заболевшего, либо создание молекулы, которая взаимодействует с пораженным рецептором, определяющим течение заболевания. Если болезнь реализуется через множество механизмов, как в случае, например, болезней сердца, орфанное лекарство придумать практически невозможно.
После определения мишени происходит поиск тех соединений, которые связываются с необходимым рецептором, или разрабатывается молекула, замещающая нечто отсутствующее в организме, и система ее доставки. Часть данных процессов моделируется на компьютере, в дальнейшем химики осуществляют направленный синтез, и после этого на определенных моделях тестируется сродство молекулы к интересующему нас рецептору. Затем определяется, может ли она работать на клеточном уровне и на биологических моделях (коими обычно служат грызуны). Эффект от применения орфанных препаратов можно увидеть достаточно быстро. Мы можем рассмотреть это на примере наследственных заболеваний малышей, связанных с нехваткой некоторых энзимов в печени. Если мы даем такой препарат ребенку, который бы без него погиб в 100% случаев, и малыш выживает, — это и есть абсолютное доказательство эффективности. Такие лекарства созданы и для лечения редких видов рака, болезней крови и рассеянного склероза.

Попытаться открыть что-то действительно новое — большой риск для научного коллектива, ведь при неудаче он может буквально вылететь из академической обоймы. Так наука сегодня становится конъюнктурной. Если исследователь в Америке вдруг понимает, что он может сделать иначе, может сделать молекулу, которая будет работать, действовать на другое звено, то часто его осаждают, потому что он должен работать четко в той колее, в которой много лет работает лаборатория. Приоритет зачастую отдается работе по выбиванию грантов, без которых коллектив просто не выживет. И если лаборатория выходит за рамки своей сферы исследований, зачастую очень узкой, то грант, как правило, не дают. Именно поэтому инновационные идеи часто погибают.
Разработанные и показавшие эффективность «в пробирке» молекулы выходят на доклинические испытания, затем проходят первую фазу, в частности, на здоровых добровольцах. Лекарства часто разрабатываются малыми коллективами исследователей, но права на них принадлежат не ученым и врачам, а совсем другим лицам, для которых основной целью часто служит продажа перспективной молекулы крупной фармацевтической фирме как можно дороже. Даже на Западе академический круг очень узок, поэтому достоинства молекулы могут быть приукрашены и приправлены положительными отзывами, в связи с чем крупные компании рискуют приобрести «кота в мешке». Неудачное лекарство обязательно «провалится» на решающей, третьей, фазе клинических испытаний, которые проводятся на тысячах больных и возглавляются непререкаемыми лидерами научного мнения. Так, препарат, который отлично снижает глюкозу в крови, может не предотвращать при этом развитие фатальных осложнений сахарного диабета в сравнении с использующимся с середины XX века метоформином. В последние несколько лет большое количество «инновационных» лекарств, в изобилии встречающихся на полках аптек, не показало в клинических исследованиях статистически значимого превосходства над плацебо или традиционным лечением.
Поэтому сегодня одни из самых востребованных специалистов — те, кто занимается так называемой translational medicine, то есть люди, которые, увидев самые первые фазы испытаний, могут предсказать судьбу лекарства и предложить для прояснения соотношения рисков и пользы новые эксперименты (по возможности, без привлечения больных!). Но таких специалистов, особенно неангажированных, очень мало. Именно из-за ошибок специалистов по translational medicine или потому, что они просто не были привлечены, зачастую только на завершающей третьей фазе клинических испытаний оказывается, что препарат, который показывал великолепные результаты на первых этапах, — в реальности «не работает». Фармацевтическая компания, потратив на исследование многие годы и десятки миллионов долларов, только на последнем рубеже понимает, что препарат нельзя использовать. И поэтому те препараты, которые все-таки удалось вывести на рынок, стоят так дорого — за счет их продаж надо покрыть убытки «казино создания новых молекул».
Вопрос, как гармонизировать данную систему и сделать эффективное лекарство более доступным, — исключительно сложный. Первое — это поиск новых подходов и новых молекулярных «мишеней». Но проблема состоит в том, что новые высокоэффективные молекулы часто создаются небольшими коллективами, и понять, кто из них в действительности заслуживает внимания, крайне сложно: слишком много проходимцев. Наконец, в мире сегодня очень мало экспертов, которые могут отделить зерна от плевел. Поиск среди этих небольших коллективов тех, которые производят реально инновационный, эффективный продукт, — это сейчас ключевая, основополагающая задача. Важно не обмануться уже в самом начале пути.
- В чистом виде (лат.).
postnauka.ru/video/2970 postnauka.ru/video/2541

Совокупный геном какого-нибудь сообщества организмов называют метагеномом. Например, есть метагеном бактерий, живущих во рту человека. На самом деле это не очень точно, потому что на зубных бляшках живет одно сообщество, на языке сверху живет другое, снизу — третье и т.д.
Одним из существенных сюрпризов, когда появились методы анализа через определение генетической последовательности, оказалось то, насколько велико разнообразие. Это сотни геномов, про большинство из которых раньше ничего не знали. Они не культивируемые, то есть мы не можем их изучать классическими микробиологическими средствами, и единственное, что мы можем с ними делать, — это изучать и сопоставлять их геномные последовательности.
В человеке бактериальных клеток как минимум в 10 раз больше, чем его собственных клеток. С точки зрения бактерий мы просто большой ходячий домик. Ясно, что бактериальные клетки существенно меньше, чем клетки человека, но тем не менее 1-2 килограмма бактерий мы с собой носим.
Человек — это симбиотический организм, потому что мы от бактерий, которые в нас живут, сильно зависим. Например, они взаимодействуют с нашей иммунной системой. Многие аутоиммунные заболевания, особенно аутоиммунные заболевания кишечника, являются следствием бедности бактериальной флоры: иммунная система начинает работать вхолостую. Кроме того, у нас происходит обмен веществами с этими бактериями. Часть витаминов мы получаем с пищей, а заметную долю делают наши кишечные бактерии.

Известно, что у полных людей и у худых разный видовой состав бактерий, которые живут в кишечнике. Это можно исследовать экспериментально: вы берете несколько стерильных мышат, одних заражаете одними бактериями, других — другими, и даже если эти мышата из одного и того же помета, одни будут весить на десятки процентов больше других при одинаковом питании.
С медицинской точки зрения очень существенно влияние антибиотиков, потому что антибиотики — это то, чем убивают бактерии. Убить вы хотите патогена, но при этом вы травите и свою собственную бактериальную флору. Есть не очень аппетитная, но разумная процедура, когда у человека перед тем, как давать ему большие дозы антибиотика, собирают образцы кала и потом, чтобы восстановить кишечную микрофлору, этими образцами засевают обратно его кишечник.
Я естественным образом начал с человека, а есть красивые работы по метагеномному анализу Мирового океана. Крейг Вентер — один из авторов первых статей про геном человека, а его следующим большим проектом был как раз метагеномный анализ океана. Он купил яхту и проплыл от Ньюфаундленда через Панамский перешеек в Тихий океан, а по дороге зачерпывал пробы воды и потом определял последовательность геномов бактерий, которые в этих пробах жили. Про бактерии, которые населяют Мировой океан, мы знали довольно мало, а это большая доля в продукции кислорода, сравнимо с лесами, которые мы так активно защищаем. Основную часть кислорода делают одноклеточные цианобактерии в океане.
Есть экзотические и очень красивые примеры изучения бедных видами метагеномов, связанных с необычными условиями. Например, есть бывшая железная шахта с кислой водой, фактически это разбавленная серная кислота. Там живет несколько видов бактерий. Обычно когда вы занимаетесь метагеномикой, то реконструировать полные геномы не можете: у вас получаются кусочки. А когда видов мало и прочитано при этом очень много кусочков, то они начинаются склеиваться в полные геномы. Тут уже возможен некий гибрид метагеномных и классических микробиологических подходов.
Была еще чудесная история про морского червя Olavius algarvensis, у которого нет желудка. Вместо этого у него в коже живут несколько видов бактерий в симбиозе. Опять-таки определили последовательность сразу всех и описали метаболические взаимоотношения между этими видами: кто-то червю делает аминокислоты, кто-то помогает этому, поставляя субстраты для дыхания. От червя же бактериям нужно, чтобы он ползал, так как сами они не могут передвигаться на большие расстояния. Получается такой троллейбус, который перемещается туда, где нужная концентрация серы, железа, углекислого газа. По отдельности всех этих существ вырастить невозможно: они могут существовать только как единое целое. Вот такая замечательная метагеномная история.
postnauka.ru/video/3390

Современный человек осваивает пространство, кодируя его: превращая места в помещения, природу — в пейзажи, поверхности — в ландшафты. Так же как мы не чувствуем атмосферного давления, мы не чувствуем давления окружающих кодов. Офис закодирован видом перегородок, запахом кондиционированного воздуха, шумом работающих компьютеров. Звук включенного в пустой комнате телевизора наполняет ее, задавая границы места, как рампа и занавес задают границы сцены (И. Гофман).
Код делает пространство читаемым, прозрачным и непроблематичным. Еще 100 лет назад человеческая жизнь была четко поделена между формами взаимодействия. Каждой такой форме (фрейму) соответствовал свой кластер мест; риск смешения, наложения, пересечения разнородных коммуникаций сводился к минимуму. К обеду следовало «одеваться», на войну — «снаряжаться», на природу — «выезжать». Чем выше в социальной иерархии стоял индивид, тем больше фреймов взаимодействия было ему доступно. Сегодня же мы постоянно сталкиваемся с нестабильностью контекстов человеческого существования: коды мест накладываются друг на друга, на пересечении кодов рождаются новые сигналы и новые шумы. Отсюда эффект гетеротопии (М. Фуко) — соединения в одном пространстве разнородных, вложенных друг в друга ландшафтов.

Фрагментация сообщает взаимодействию незавершенность: самостоятельным и суверенным существованием обладают только большие фрагменты коммуникаций, а мир, разбитый на множество перемешанных осколков, нуждается в постоянной переборке и достройке. Усложнение кодировки взаимодействия породило нового «читателя пространства» — читателя, которому «писатели» делегировали значительную часть своих полномочий. В 60-х «автор умер», чтобы освободить дорогу тексту. В 2000-х умирает текст, чтобы дать дорогу открытому коду — имплицитному читателю ландшафта.
Что отличает социальное состояние от естественного, взаимодействие людей — от взаимодействия приматов? Социальная жизнь приматов комплексна: их коммуникации протекают в общем нефрагментированном пространстве, в их распоряжении нет комнат, ширм, укрытий, профилей и блогов, любая особь может вмешаться в любое наличное взаимодействие (Б. Латур). Социальная жизнь людей не комплексна, но сложна: наши коммуникации буквально сложены друг в друга и обособлены. Эволюция социального движется не от простого к комплексному, а от комплексного к сложному: complex и complicated — два этих типа взаимодействий предполагают принципиально разную архитектуру. Парадокс же состоит в том, что процессы усложнения коммуникации в конечном итоге возвращают сложную человеческую жизнь назад, в естественное состояние неразличенной комплексности. Чем сложнее структуры нашего общения, тем меньше в них специфически человеческого. Это заставляет заново определять отношение естественного/социального в современном мире.
Тот факт, что естественное и социальное больше не противостоят друг другу как «натура» и «культура», заставляет искать новые коды их соотнесения. Это соотнесение, в свою очередь, требует нового языка — человеку предстоит перекодировать природный ландшафт таким образом, чтобы его прочтение происходило не в привычном режиме потребления дистиллированных препаратов (городской парк), отстраненной созерцательности (лесная зона прогулок), музейного архивирования (заповедник) или утилитарной апроприации (дачный участок). На смену закрытым кодам, жестко разводящим культурные и натурные объекты, должны прийти принципиально иные, гибридные типы соединения естественного и социального, на смену утопическим моделям их сочетания — гетеротопические практики их производства.
postnauka.ru/faq/1842

Люди часто говорят о микромире и макромире. Микромир — это мир элементарных частиц, масштабы очень маленькие, и, конечно, их представить наглядно невозможно. Другая крайность — макромир. Это скопление галактик, Вселенная — совсем другой язык, другие масштабы. Когда говорят о мире элементарных частиц, мы ставим эксперимент, когда говорят о мире галактик, мы делаем наблюдения: над Галактикой, над Вселенной эксперимент поставить сложно. Тем не менее информация примерно похожа: мы получаем данные, которые надо как-то осмыслить.
В области астрофизических наблюдений было замечено, что мир, вероятно, состоит не только из того, что мы видим, а видим мы звезды, туманности, межгалактический газ — в общем, астрономические объекты. По вращению звезд вокруг центра Галактики можно определить, какова масса Галактики. Так вот, масса оказывается больше, чем то, что мы видим как светящуюся Галактику (разглядеть можно только то, что испускает свет). Взять наш Млечный Путь: у него есть определенное количество звезд, которые можно подсчитать из астрономических наблюдений. Приблизительно известно, какова их масса. А еще можно посмотреть, как Солнце вращается вокруг центра Галактики: примерно со скоростью 220 км/с. Если исходить из видимых звезд, то оно должно вращаться медленнее.
Спрашивается, что же это такое? И было сделано два предположения: что либо законы гравитации неверны (в данном случае — закон Ньютона); либо есть какая-то скрытая, невидимая нам масса. Наиболее популярной точкой зрения является теория о скрытой массе, такой, которую мы не видим, потому что она не испускает света. Та материя, которая не испускает свет, была названа темной материей.
Это с одной стороны; с другой стороны, есть не просто астрофизика наблюдения звезд, а еще и общие космологические взгляды на Вселенную: кривизна пространства, скорость расширения… И вот из этих космологических наблюдений следует, что видимая материя — звезды, межгалактический газ — составляет всего 4% общего энергетического баланса Вселенной. 24% составляет темная материя. А еще 70 с лишним процентов составляет неизвестно что, получившее кодовое название «темная энергия».
Почему разделяют темную энергию и темную материю? Дело в том, что предположительно темная материя — это обычная материя с обычными уравнениями состояния: давление пропорционально плотности и т.д. А вот то, что называют темной энергией, и то, что ответственно за расширение Вселенной, это субстанция, которая не подчиняется обычным законам для частиц. В процесс создания общей теории относительности Эйнштейн сначала хотел построить статическую модель Вселенной. И ввел туда т.н. «лямбда-член», или космологическую постоянную. Эта космологическая постоянная (иногда ее называют энергией вакуума) и есть темная энергия. Загадкой для физиков является то, почему она такая маленькая. Потому что хотя 73% кажутся очень большой долей во всей энергии Вселенной, но если пересчитать в некие единицы, которыми мы оперируем в физике частиц, то это фантастически маленькая величина. Это масштаб, которого в физике частиц нет.
Пока неизвестно, из чего состоит темная материя. Если мы возьмем обычные частицы стандартной модели и скажем: «А не может ли она состоять из этих же частиц?» — ответ будет отрицательный. Поэтому приходится изобретать какие-то новые частицы. Существует довольно много вариантов, но ни один из них экспериментально не подтвержден.
Один из таких вариантов, который сейчас очень популярен, — это предположение, что в мире есть суперсимметрия, она предсказывает новые частицы и, в частности, такую частицу, которая является «партнером» фотона. Фотон — это квант электромагнитного поля, свет. Его «партнер» (эту частицу называют фотино) — кандидат на роль частицы темной материи. Это нейтральная частица, у нее нет электрического заряда, она тяжелая — сто масс протона, может быть, больше — и она участвует в слабом взаимодействии.
В электрофизике существует такой термин: ВИМП. (Это аббревиатура, от англ. WIMP, Weakly Interacting Massive Particle — слабовзаимодействующая массивная частица.) Например, фотино — это ВИМП. И вот эти ВИМПы предположительно составляют основу темной материи. Они образуют гало нашей галактики — гало примерно раз в пять больше, чем видимый размер Галактики, и по нему эти частицы носятся со скоростью примерно 300 километров в секунду.
Мы пытаемся их экспериментально обнаружить. Есть специальные подземные установки для того, чтобы эти ВИМПы поймать, но пока результат отрицательный. Если она будет поймана путем взаимодействия с обычной материей, тогда, вероятно, следующим этапом будет попытка получить ее на коллайдерах. Мы пытаемся идентифицировать то, что рождается на коллайдерах, с тем, что мы ловим из космоса в виде частиц этой темной материи. И если эти два пути сойдутся, то мы поймем природу темной материи.
postnauka.ru/video/429

Впервые тема коррупции была поднята в 1904 году человеком по фамилии Форд, который написал о политической коррупции, возникающей во время социальных трансформаций. Затем в 1910-м общественное внимание привлекла работа Брукса «Коррупция в американской политике и жизни», заостряющая внимание на повседневных практиках коррупционных отношений. И потом, вплоть до 1960-х гг., были лишь единичные публикации. Резкое возрастание интереса к коррупционной тематике началось на рубеже 1970—1980-х и было связано с тем, что к изучению проблемы подключились экономисты.
«Коррупция как игра» Кэдота, «Анатомия коррупции: политэкономические подходы к отставанию в развитии» Алама, «Динамическая модель коррупционных отношений» Луи и т.д. Сотни публикаций. В них экономисты предложили сместить акцент с рассуждений о моральном долге и праве на разговор об издержках и о доходах, связанных с коррупционными акциями.

Одним из самых важных вопросов в исследовательской практике является вопрос нейтрального отношения исследователя к той тематике, которую он изучает. Чтобы изучать коррупцию, не надо с ней бороться. Нужно понять человека, понять среду, в которой он находится, провести этнографический анализ ситуации.
Как правило, публикации о коррупции строятся по принципу описания ее как некоторой глобальной системы. Обычно в качестве аналога предлагаются иерархические, бюрократические структуры. Но если посмотреть на некоторые реальные практики, то можно усомниться в правильности подобного подхода.
Во-первых, есть объективные данные. В 2011 году в суды поступило около 50 тысяч коррупционных дел, и из них только 1% был классифицирован как групповые дела. При этом в группах проходило по 2–3 человека, не более.
Во-вторых, различного рода этнографические исследования не показывают системных коррупционных отношений, обычно они локальны. О коррупции как о системе много говорят, но никто не приводит эмпирического материала в подтверждение этого.
Что можно предложить в качестве альтернативного подхода? В данном случае весьма продуктивно обратиться к этологии. Если мы предположим, что коррупция не несет в себе институциональных норм, а является отражением некоторого биологического статуса человека, то мы увидим, что коррупционные отношения очень похожи на некоторого рода сегрегации. Так же, как мальки сбиваются в кучу в водоеме в прогретом солнцем месте, так же и люди с коррупционными наклонностями собираются и начинают какую-то совместную деятельность в наиболее благоприятных для этого условиях.
Мы можем рассмотреть и другую метафору. Биологи давно заметили, что сообщества микроорганизмов каким-то странным образом не впускают в себя чужаков. То же самое мы можем наблюдать и в коррупционной среде — чужакам здесь не место, они не могут стать участниками коррупционных сделок.
Коррупция живет языком жестов и намеков. Никогда нельзя сказать точно, что эта сделка будет стоить 50 или 500 тысяч долларов. Когда человек попадает в коррупционные отношения, он обычно видит перед собой некоторые весьма слабо соотносимые с получением денежных единиц действия. Он должен не догадываться, он должен знать эту ситуацию. Если он вынужден догадываться, то он уже определяется как чужак.
Не нужно искать в коррупционной сделке сложных схем. Схемы должны определяться в диадах: взял деньги — «решил вопрос». Чем больше количество людей, которые посвящены в коррупционную схему, — тем менее она устойчива. И это еще один контраргумент против системности коррупции. Теоретически коррупция может быть системной, но чем больше иерархических ступеней входит в схему, тем меньше шансов, что она продержится какое-то время.
Когда я говорю, что коррупция — неиерархическое понятие, здесь есть некоторое лукавство и следование за метафорой мальков. Начальник и подчиненный никогда не будут проговаривать коррупционную сделку. Начальник как бы отдает право на кормление своему подчиненному, позволяет ему брать определенную сумму. Ему это может быть выгодно с чисто экономических позиций. Есть возможность делегировать риски, не ломать голову над теми или иными решениями. Правда, кормление регулируется не только предоставлением человеку возможностей брать некоторые суммы, но также и границами, какие суммы можно взять, а какие — требуют согласования. Так вот, согласование — невозможно. Как только возникает система, в которой сумма выходит за пределы компетенции этого человека, так сразу коррупционная сделка останавливается, потому что это еще один фактор обнаружения чужака. Пришел чужак и предложил так много, что с ним не нужно иметь дела: либо это какая-то подстава конкурентов, либо этот человек настолько невменяем, что лучше держаться от него подальше.
Итак, коррупцию продуктивнее сравнивать с сегрегацией, говорить о ее повсеместности и обыденности, нежели системности. Любые попытки системного или функционального описания коррупции переопределяют само описание, предлагая читателю некоторый научно-художественный нарратив.
postnauka.ru/video/3380

Нанотехнологии — это просто. В моей предыдущей книге «Малые объекты — большие идеи» (2011) я «вывел» такое определение: нанотехнологии — область естествознания, предметом изучения которой служат объекты с размером от 0,1 до сотен нанометров.
Что же это за объекты? Во-первых, атомы и все химические соединения от простейших воды с кислородом до полимеров. Нанотехнологии — «это новое название, которое придумали для химии», как точно и остроумно сказал лауреат Нобелевской премии по химии Роалд Хофман. Во-вторых, это многие биологические вещества и структуры: ДНК, РНК, белки, ферменты, клеточные мембраны, нервные окончания, вирусы и т.д. И, наконец, вглядимся в многочисленные технические устройства, прочно вошедшие в нашу повседневную жизнь. Разнообразные дисплеи, DVD-диски, флешки, лазерные указки, пульты дистанционного управления — все они включают элементы, имеющие размеры в десятки и сотни нанометров.
Таким образом, окружающий нас мир, мы сами, используемые нами технические устройства относятся к нанотехнологиям. Это не какая-то новая область науки; это синтез привычных нам физики, химии и биологии, разъединившихся два столетия назад и объединяющихся теперь на наших глазах в новое естествознание XXI века.
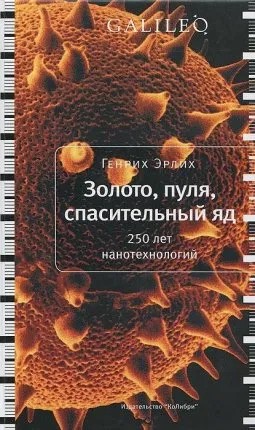
Разговоры о революции потребовались для того, чтобы побудить раскошелиться потенциальных спонсоров, включая главного — государство. И эта цель была достигнута. Особенно ярко это проявилось в нашей стране, где наука и высокотехнологичные отрасли производства 15 лет пребывали в загоне, и дело сдвинулось с мертвой точки лишь с началом нанотехнологического проекта, под который выделили беспрецедентное финансирование. Но сейчас мы видим и обратный эффект. Разговоры о «революции» породили ожидания некоего технологического чуда, прорыва, которого «здесь и сейчас» не наблюдается. Отсюда разочарование в нанотехнологиях и в науке в целом. Кроме того, людям в их массе свойствен страх перед новым, «революционные» технологии вызывают опасение как очередное предвестие апокалипсиса.
Так что одной из целей книги было объяснить суть нанотехнологий и одновременно развеять недоверие к ним и страх перед ними.
*Вышла в издательстве «КоЛибри».
P.S. Тому, каково место российской нанонауки в общемировой, посвящено большое наукометрическое исследование (анализ публикаций), проведенное по заказу Министерства науки и образования РФ. Его основные результаты приведены в моей статье в мартовском номере журнала «Химия и жизнь» за 2012 год. Если коротко, то российский вклад составляет 2—4% в зависимости от области знания, от наномедицины до наноматериалов, соответственно. Немного. Ущемляет гордость.
postnauka.ru/books/790