Антибиотики и простуда у детей
99% реальной культуры оказывается за пределами Министерства культуры
Невежество, которое вменяется сегодняшнему человеку, выгодно и производителям, и политикам
Почему университеты развиваются во время войны

Зарплату режут, работников — почти никогда
Российская модель рынка труда

Экономическая теория предсказывает, что рынок труда в развитых экономиках адаптируется к шокам — как положительным, так и отрицательным — через изменения в численности занятых, а не через изменения в величине заработной платы. Экономическая история дает этому много примеров-подтверждений. Другими словами, если случается глубокий кризис, то работников увольняют и растет безработица, а если экономика растет, то активизируется наем. Заработная плата при этом ведет себя очень инерционно. Тому есть много причин.
В начале периода реформ в Восточной Европе и в нашей стране царило общее ожидание невероятно высокой безработицы. Оно вытекало как из стандартной экономической теории, так и из понимания того, что унаследованная экономическая структура была нежизнеспособной. Спад в экономике, массовые закрытия предприятий и, как следствие, увольнение людей — все это казалось взаимосвязанной цепью событий. Однако уже в 92-м году, в первый год реформ, аналитики увидели, что дело обстоит не совсем так. Обвал в экономике привел к снижению заработной платы на треть, а занятость лишь начала медленно ползти вниз. Потом в 94-м году был банковский кризис, который также сопровождался сокращением реальной заработной платы еще на треть. Что происходило с занятостью? Почти ничего. Дальше был 98-й год с его кризисом — опять имела место слабая реакция на стороне занятости, но очень сильная на стороне заработной платы.

Начнем с тех, что влияют на занятость. Прежде всего это трудовое законодательство, определяющее защиту рабочих мест. На английском языке этот набор норм называется employment protection legislation. Оно устанавливает издержки, которые несет компания, когда хочет уволить людей по экономическим причинам. Чем они больше, чем увольнения для работодателя «дороже», тем меньше людей высвобождают. Но чем меньше людей высвобождают в плохие времена, тем меньше нанимают в хорошие. Таким образом, большой налог на увольнение в условиях кризиса становится налогом на наем в условиях подъема. Это стабилизирует занятость. В условиях кризиса у вас нет возможности быстро сократить численность, это слишком дорого; а в условиях хорошей конъюнктуры вы не будете увеличивать численность, ожидая нового кризиса. Ведь после подъема на гору надо спускаться вниз. Таким образом, этот институт вводит значительную инерцию в динамику численности занятых. В России это законодательство является достаточно жестким (то есть предусматривает высокую цену увольнений), однако применяется весьма селективно и неполно. Компании это знают и некоторые нарушают законы в надежде, что смогут избежать наказания. Для большинства же такой режим применения правил создает неопределенность и повышает риски. В итоге они предпочитают не рисковать и не нанимать дополнительных людей даже тогда, когда в этом есть производственная необходимость.
А что происходит на стороне заработной платы? Какие институты дают ей такую потрясающую гибкость? Эти институты отчасти возникают как реакция на законы, регулирующие занятость, отчасти являются следствием иных факторов. Один из них — очень низкий порог заработной платы, который определяется уровнем минимальной заработной платы и/или уровнем пособия по безработице. Это та планка, ниже которой заработная плата не может падать. В нашей стране она крайне низкая, но не может быть высокой в силу разных обстоятельств, среди которых — очень большие различия между региональными рынками труда. Если эта «планка» общероссийская и единая, то она должна учитывать условия наиболее слабого региона.
Но гибкость определяется также тем, может ли зарплата сжиматься (и разжиматься, если понадобится) как гармошка. У нас это достигается с помощью деления заработка на постоянную и переменную части. В итоге зарплата получается своего рода «двухъярусной». Первый ярус — это оклад, оплата по тарифу и т.п., то есть то, что может быть жестко зафиксировано в трудовом договоре, а второй — это разные премии, бонусы, надбавки, которые устанавливаются очень гибко и зависят исключительно от того, как идут дела на фирме, в компании, в организации. Второй ярус фактически работает как автоматический амортизатор, меняясь по величине в зависимости от конъюнктуры. В «хорошие» времена работодатели делятся с работниками прибылями, а в «плохие» — убытками. Но если убытки можно таким образом переложить на работников, то нет необходимости их массово увольнять. Большинство стран такой системой не пользуется, а у нас это очень распространено. Двое из трех работающих в корпоративном секторе имеют такую переменную часть, а сама она составляет в среднем 30-40% от заработка.
Отсюда целый ряд важных следствий. Одно из них заключается в том, что безработица у нас зависит не от того, что и как делает правительство, а во многом от того, сколько гибкости дает фирмам наш рынок труда. Когда сегодня мы говорим о том, что у нас низкая безработица, то надо иметь в виду, что это не столько успех тех, кто отвечает за регулирование экономики, сколько заслуга этих нестандартных институтов рынков труда.
postnauka.ru/video/13152
Антибиотики и простуда у детей
Как не уничтожить вместе с вирусами еще и здоровье ребенка и к чему приводят массовые психозы родителей

Антибиотики были открыты почти 80 лет назад и с тех пор очень помогают человечеству бороться с бактериальными болезнями. Но помогают они только от болезней, вызванных теми бактериями, которые они подавляют. А к другим бактериям их применять бесполезно, и особенно бесполезно их применять при вирусных инфекциях.
Действию антибиотиков угрожают простудные заболевания, при которых большая часть человечества поглощает огромное количество антибиотиков совершенно напрасно. 93–95% всех простудных заболеваний вызывают вирусы. Итак, простуда — вирусное заболевание, и особенно у детей. И здесь сталкиваются две тенденции. С одной стороны, создание новых антибиотиков, которые действуют на всё больший круг бактерий. И массовое применение антибиотиков при простудных, то есть вирусных заболеваниях. Казалось бы, антибиотики не очень ядовитая субстанция: они вызывают, конечно, побочные реакции, но не так много, и не об этом идет речь. Дело в том, что, применяя антибиотики, мы приучаем микробы переносить влияние антибиотиков, создаем устойчивость бактериальной флоры.

Устойчивые микробы ему до поры до времени не вредят, но когда они попадут не туда, куда нужно, например, в легкие, в полость среднего уха, бороться с ними будет очень трудно. Но не только у него самого. Вокруг него ходят люди, они получают его же устойчивую флору. Например, в России пневмококк — этот основной респираторный патоген, который мы не любим, приобрел устойчивость к пенициллину и другим антибиотикам примерно в 10% случаев — это не так много, но у каждого 10-го больного пневмонией мы можем не получить быстрого эффекта от лечения. А во Франции до недавнего времени устойчивыми были 40% пневмококка — видимо, там ели антибиотики ложками. Сейчас устойчивых пневмококков стало меньше. Гораздо выше устойчивость у детей двух-четырех лет: 20—25%. В чем здесь дело? Просто у детей очень плотная популяция пневмококка, дети еще не имеют антител к нему, и в этой плотной популяции легче образоваться клону устойчивых микробов. Если вы придете в детский сад, там 50—60% всех пневмококков будут устойчивыми. А если — в детский дом, в интернатное учреждение, там до 80—90% бывает устойчивыми. И это наша рукотворная работа. Мы сами делаем все для того, чтобы антибиотики не действовали. И это не просто теория, мы постоянно встречаемся с устойчивыми к антибиотикам формами, и сейчас они наблюдаются все чаще и чаще.
Среди населения, например, к макролидам (это эритромицин, азитромицин) устойчивость не самая большая (8%), а если мы в клинике смотрим детей, которые часто болеют, — у них 30%. И мы получаем больных с пневмонией, которая раньше элементарно лечилась макролидами, а сейчас не лечится. Отит, который тоже раньше лечился этими препаратами, не лечится, приходится назначать другие препараты. Что это значит? Это значит, мы получили очень большую частоту устойчивой флоры.
Казалось бы, давайте выпускать другие антибиотики, которые действуют и на устойчивую флору. Выпускают, создаются новые антибиотики, но за последние годы новых антибиотиков стали создавать очень и очень немного.
Мы за 12 лет этого века получили два-три новых антибиотика, не очень безопасных, упоительно дорогих и с рекомендацией применять их редко, как можно меньше, в том числе чтобы не создавать устойчивость к этим препаратам. Новые мощные препараты применяют в больницах, и мы сейчас имеем огромное количество уже не пневмококков, а более «серьезных» микробов: стафилококков, клебсиелл, энтерококков, синегнойную палочку и др., устойчивых к новым антибиотикам. Это очень большая проблема, которая начинается с невинной простуды.
Вы спросите: «Хорошо. Если не антибиотики, чем лечить простуду?» Есть очень хорошее народное наблюдение, что если лечить простуду, она длится одну неделю, а если не лечить, то семь дней. Это наблюдение очень правильное. Почему дети часто болеют вирусными инфекциями? Потому что у них нет антител к вирусам. Вакцин от этих вирусов пока нет, кроме гриппозных, но и ее, безопасную и защищающую на 85%, почему-то население очень не любит и боится, хотя мы еще ни разу не видели грипп у привитого ребенка.
Вирусов — возбудителей респираторных инфекций очень много. Пока ребенок ими не переболеет, он не получит антитела к этим вирусам. Поэтому, нравится нам или не нравится, ребенок от нуля до школы заболевает вирусными инфекциями минимум пятьдесят раз. А если считать самые маленькие эпизоды, то сто раз получается. И ничего с детьми не случается, если их не лечат антибиотиками.
Чем же лечить вирусную инфекцию у ребенка? Прежде всего его надо поить достаточно, при повышении температуры тела он теряет воду с потом. Если он будет достаточно гидратирован, то ему не страшны проявления вирусной инфекции — кашель, насморк — на все хватит воды в его организме. Второе. Если у ребенка зашкаливает температура за 39,0–39,5, надо дать жаропонижающее. Если меньше, не нужно давать, потому что температура помогает бороться с вирусами. И последнее. В аптеках продается бесконечное количество снадобий от гриппа, от кашля, от чего угодно. Если вам очень хочется, можно их применять, а можно не применять, тоже ничего от этого не случается.
И к вопросу о том, почему наука забуксовала с антибиотиками, — пока что мало новых идей. Оригинальные антибиотики создавались из продуктов жизнедеятельности различных плесенных грибков, новые подходы к созданию антибиотиков реализуются медленно. Но ведь важно также понять, почему люди применяют антибиотики там, где не нужно? Этот вопрос относится уже к науке психологии, к развитию массовых психозов и привычек. Хотелось бы, чтобы те ученые, которые занимаются нашим сознанием, нашли способы воздействовать на это поведение, с тем чтобы сохранить антибиотики для будущих поколений.
postnauka.ru/video/11630
Главное, чтобы человек был культурный
99% реальной культуры оказывается за пределами Министерства культуры

Одним из предрассудков, распространенных в обществе, является следование в интеллектуальной деятельности административному делению и вещам, которые придумывает бюрократия. С точки зрения людей, распределяющих деньги, культура — это то, чем занимается Министерство культуры.
И в этом заключается главная проблема. Оказывается, что границы этой культуры очень узкие, что практически все, что составляет основу нашей культуры повседневной жизни, наших верований, наших ценностей, входит в это представление о культуре лишь косвенно.
Когда мы делаем исследования в сфере культуры, у нас в разговорах очень часто возникают вопросы: ну а радио, телевидение — есть там культура или нет? «Есть, конечно, — говорят, — есть канал «Культура», это культура. А есть первый, второй, третий или какой-то другой канал, которые — не культура». Мы беседовали как-то с представителем молодежного радио, который сказал: «У нас культуры довольно мало, у нас одна передача в неделю». А в остальное время у вас что? «А в остальное время у нас музыка», — сказал он. Для него музыка не была культурой, потому что культура — это «то самое», которое напоминает мне всегда классическую фразу из второго фильма о Джеймсе Бонде «Из России с любовью», когда его русская возлюбленная говорит: «Главное, чтобы человек был культурный». Такая ведомственная культура — это представление о том, что культура — это некое благонравие.

люди, распределяющие деньги, считают, что культура — это такое маленькое развлечение, маленькое гетто, куда мы даем остатки денег, а вообще к жизни людей это особого отношения не имеет. Конечно, там есть народные артисты, есть выдающиеся исполнители, есть Большой театр, как говорил В.И. Ленин, «кусочек помещичьей культуры». И это мы как бы поддержим, потому что это культура, ну а все остальное к культуре отношения не имеет.
Скажем, с моей точки зрения, все телевидение, радио, кулинария, образ жизни — все это есть часть культуры. И вот эти все культурные реалии оказываются чуть ли не враждебными этой высокой культуре, которая становится на пьедестал и не хочет с него слезать, потому что приходят другие поколения, у них есть свое представление о том, что такое хорошо и что такое плохо.
Но в результате эти последние, как это ни странно, побеждают.
Есть очень характерный пример: ансамбль «Битлз», который в эпоху моей юности считали абсолютным бескультурьем, с которым нужно бороться всеми силами. В том числе и в Великобритании правящая элита, королевский дом глубоко презирали эту самую «ливерпульскую четверку». Потом проходило время, люди, которые были подростками в эпоху, когда битлы только появились, стали взрослыми, частично захватили власть в обществе, и британская королева уже посвятила в рыцари одного из членов этого ранее презираемого коллектива.
Это же касается Чарльза Спенсера Чаплина, который был глубоко презираемым человеком в тот момент, когда он творил достаточно активно, а потом стал гением. Или у нас Леонид Иович Гайдай, великий комедиограф, который в свое время, когда я был молодым киноведом, считался самым плохим режиссером. В результате фильмы Гайдая до сих пор идут по телевидению.
Но для того, чтобы признать гений Чаплина, гений Гайдая или гений битлов, понадобились те же 20 лет, которые якобы нужны только для того, чтобы достижения высокого, ведомственного искусства наконец-то донеслись до широких масс народа. Поэтому и остается полной загадкой: что же из нашего времени станет достоянием будущего — то, что сегодня радикально отрицается, то, за что сегодня сажают в тюрьму, или, наоборот, то, что сегодня официально поощряется и продвигается на сцены больших оперных театров или главных выставочных залов страны.
postnauka.ru/video/12740
«Помойная наука» на службе невежества
Невежество, которое вменяется сегодняшнему человеку, выгодно и производителям, и политикам

…К середине 60-х годов наука единодушно доказала вред курения, что вызвало авральную ситуацию внутри табачной индустрии, которая смогла сделать курение из довольно периферийного социального феномена центральным сопровождающим мотивом как работы, так и досуга. Что было делать? Наука стала врагом индустрии. После некоторых неуклюжих попыток сопротивляться мажоры американской табачной индустрии обратились к пиар-агентствам, которые придумали гениальный ход — полюбить науку и «задушить» ее в своих «любовных объятиях»: создать научные социальные институты, которые бы целиком были на содержании у индустрии, а затем противопоставлять нежеланному мнению одних ученых мнения других — спекулировать на сомнении.
Сомнение лежит в основе европейской рациональности. Эта категория восходит, как и все остальное, к античности, а начиная с Декарта, сомнение становится краеугольным камнем новоевропейской рациональности. Если сомневаюсь, значит, я мыслю. Я могу все подвергнуть сомнению, кроме факта самого сомнения, именно на нем я воздвигаю дальнейшее дедуктивное здание знания. Затем Кант и Гуссерль эксплуатировали тот же самый ресурс сомнения. И вот теперь сомнение играет против самой науки. Выражаясь по Гуссерлю же, мы живем в жизненном мире, заданном наукой. Критическое мышление, методическое сомнение внушаются нам со школьной скамьи, нас учат не доверять недостоверному, не доверять мифам, нас учат, что бывает лженаука. Именно это критическое мышление в каждом из потребителей, в каждом из курильщиков в данном случае, было решено поставить на службу самой табачной индустрии.
Спустя несколько десятилетий этот механизм стал пробуксовывать и сдался. С тех пор все табачные пачки украшены страшными надписями и картинками, но и это часть компромисса, заключенного между наукой и той самой junk science (помойной наукой), как с тех пор принято называть те агентства и тех ученых, которые работают на иждивении той или иной индустрии.
Научный совет табачной промышленности пересмотрел свою политику и стал говорить: «Вред табака давно был известен, и частный курильщик имел доступ к этой информации, поэтому это его частное дело. Мы предоставили ему свободу оперировать информацией и делать свой экзистенциальный выбор — курить или не курить». То есть ответственность с монополии, с производителя перешла к клиенту. Здесь крайне интересен этот феномен производства сомнения, о котором так эти агентства и говорили, the doubt is a product: «Мы предоставляем клиенту возможность сомневаться, возможность отправлять и упражнять свое критическое мышление, выбирать между альтернативными точками зрения». Для простого потребителя эти два мнения предстают как равно репрезентативные, и из них клиент выбирает, точно так же как выбирает из двух товаров. В этом смысле знание стало постепенно лишь одним из товаров и сама возможность выбора продается так же вместе со знанием. В этом смысле невежество, которое вменяется сегодняшнему человеку, выгодно и производителям, и политикам. Недаром некоторые историки науки предлагают термин «агнотология» — наука об изучении социального конструирования невежества. Так же как век назад родилась социология знания, сегодня впору говорить о социологии незнания, о социальном его конструировании, о том, кому это выгодно и как оно создается.
В этом смысле и весь наш образовательный процесс должен быть подвергнут анализу с этой точки зрения, поскольку и современный школьник, и современный студент потребляет знание совсем иначе. Ушло в прошлое понятие корпуса знания, когда определенные факты встраивались в организованный ансамбль. Сейчас, при общей клипизации восприятия, прежде всего студенты, а потом и все люди довольствуются одним вырванным элементом, к которому обращаются часто без авторства, без связи с теоретическим целым, на чём, несомненно, играют и экономические, и политические агенты.
postnauka.ru/video/12146
Почему университеты развиваются во время войны
И как меняется их роль с течением времени

В истории европейских систем образования возникали критические моменты, в которых именно университет оказывался тем местом, где производилась новая картина мира. Как правило, это происходило в ситуациях серьезных политических кризисов.Начнем с современности.
До войны в Боснии и Герцеговине было четыре университета. Университет Сараева самый старый и крупный: на его двадцати пяти факультетах в 80-х годах училось более тридцати тысяч студентов ежегодно. Что происходит с вузовской системой в годы войны (1992–1995)? Вопреки ожиданиям, она не исчезает, а стремительно расширяется. В 1993 году две педагогические академии открываются в Зенице и Бихаче. В том же Бихаче создается институт механизации машиностроения. Университет в заселенной преимущественно боснийцами Тузле усиливается за счет открытия новых факультетов философии и педагогики. В Сербскую Республику перебираются преподаватели-сербы из Сараевского университета и университета Тузлы. Создается новый «Сараевский университет Сербской Республики». Примечательный факт: в 1993 году в разгар боевых действий принимается Закон об университетах, определяющий административную структуру вузов Боснии. По этому закону факультеты наделяются самой широкой автономией. (Кстати, британский закон об образовании тоже принимался в разгар войны — в 1944 г.)
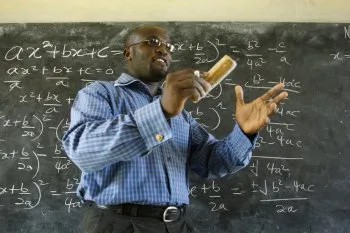
Почему это происходит? В период военных и политических кризисов университеты демонстрируют способность к производству востребованных языков описания мира. Благодаря ей университет превращается в своего рода «точку трансценденции», воспаряя над суетным миром, поднимаясь выше города, региона, империи, участвует в политической борьбе, как участвуют в ней арбитры, а не игроки. Ранее такая возможность «институционализированной трансценденции» была закреплена лишь за церковью.
Изначально «университетская автономия» — именно политическая автономия. В 1158 году Фридрих Барбаросса захватил Милан (один из самых богатых городов Ломбардии) и созвал на Ронкальском поле сейм, дабы навязать североитальянским городам новый порядок управления. В этом славном мероприятии приняли участие болонские профессора-юристы, которым удалось предложить Барбароссе нечто большее, нежели просто новую политическую схему, — они предложили ему новый язык описания политики и новый способ мышления о власти. Язык, который также помог Императору в борьбе с Папой. В благодарность за помощь со стороны болонских профессоров Барбаросса издал закон, по которому брал под свое покровительство тех, кто «путешествует ради научных занятий, в особенности преподавателей божественного и священного права». Болонские студенты освобождались от круговой поруки в уплате налогов и от подчинения городским судам Болоньи. То есть утрата (относительной) автономии северо-итальянскими городами способствовала развитию (относительной) автономии университетов.
«Церковная метафора» — одна из самых сильных метафор самоописания университета, дошедшая до наших дней. Впрочем, говоря это, следует помнить — метафора «Университет как Церковь» есть плоть от плоти языка описания, созданного самими университетами.
Здесь имеет смысл различить инструментальные и терминальные метафоры. К инструментальным метафорам мы прибегаем для прояснения ситуации (чаще всего в корыстных целях, навязывая собеседнику свое видение происходящего). Инструментальные метафоры вполне могут быть манипулятивными по своему характеру и вовсе не обязательно отражают тот язык, на котором мы не говорим, но действуем. Например, метафора «Университет — любимая дочь Короля» позволяет ректору университета претендовать на символический статус принца крови. А метафора «Университет — суверенное государство» позволяет до наших дней сохранять средневековый запрет на появление в кампусах вооруженной полиции без соответствующего разрешения ректора. (Такой запрет действовал до 1968 г. во Франции.)
Терминальные же метафоры — это метафоры конечные. Они говорят нами больше, чем мы — ими. «Университет как Церковь», видимо, некоторое время являлась конечной терминальной метафорой.
В XX столетии университет уже не является местом привилегированного производства картин мира и центром разработки языков описания. (Справедливости ради следует сказать, что монополистом на этом рынке университет не был никогда и лишь изредка оказывался в авангарде.) Начинается коррозия университетской культуры, и вместе с ней — способов самоописания университета. После Второй мировой войны мир обнаружил, что изменился. Ему требовались новые ответы на старые вопросы. И классический университет вряд ли мог в этом помочь. Так появились новые терминальные метафоры, перекроившие университетскую среду.
Одна из них — метафора социальной инженерии. Мир сошел с ума, произошла война, и сейчас наша задача — «починить» этот мир. Университет, как механик, который после катастрофы разгребает покореженные корпуса европейских государств и своими осторожными действиями возвращает их в норму, снова ставит на рельсы. В этом языке университет более не суверенен, а в лучшем случае автономен. Для Германии это означает конец классического гумбольдтовского университета с его требованием «уединения и свободы». Для Англии — поражение оксбриджской модели в символической борьбе с «краснокирпичными» университетами, наследниками индустриальной революции конца XIX века. Для Франции — проигрыш университетов высшим школам, воплощавшим дух прогрессистских реформ.
Во всех этих случаях речь идет о закате неутилитарного, непрагматического знания.
Благодаря технократическому языку университет становится инструментом социальной политики. Эта метафора лежит в основе многих социально-инженерных проектов. Например, когда закрываются шахты Рурского угольного бассейна на западе Германии, складывается сложная социальная ситуация. И для того чтобы дети потерявших работу шахтеров не пополнили ряды уличных преступников, создается университет. Но правительство ФРГ подходит к этой проблеме с немецкой основательностью: создается не просто резервация для молодежи, а по-настоящему хороший университет — Билефельдский.
Инженерия предполагает процесс проектирования. Классический пример — послевоенная Англия, 1946 год, страна в руинах. Комиссия Барлоу, которая собирается по инициативе парламента, должна проанализировать процессы, происходящие в системе образования. Ее заключение: при сохранении имеющихся тенденций мы скоро будем на последних местах по показателям экономического развития, потому что через двадцать лет стратегически важные политические и экономические решения в стране будут принимать люди, у которых нет высшего образования. Эти доводы не были приняты во внимание. В середине 1960-х собирается следующая парламентская комиссия («комиссия Робинса») и свидетельствует: Барлоу был прав, мы отстаем в экономическом развитии, потому что у нас кастовая система образования, для людей с улицы она закрыта, и университеты не выполняют функцию социального лифта. Тогда принимается ряд мер по «разгерметизации» высшего образования: пишется знаменитая Белая книга британского образования, увеличивается число вузов, наконец, создается Открытый университет, который возглавляет премьер-министр под патронажем королевы.
Бизнес-корпорация — это принципиально иная метафора. Если метафора социальной инженерии строится на идее максимизации общественного блага (понимаемого чрезмерно абстрактно), то метафора экономической корпорации держится на идее максимизации экономической выгоды (зачастую понимаемой чересчур конкретно).
Третья распространенная метафора — метафора университета как политической партии. Правда, работает она в основном либо в диктаторских режимах, либо в парламентских демократиях, где политические образования имеют давние связи с университетами, а также отдельными факультетами и школами.
В Нидерландах был случай, когда правящая партия попала в чудовищный скандал из-за перебрасывания государственных ресурсов «своим» университетам. Иллюстрацией сращения университета и власти может служить единственный пример университетской диктатуры в истории ХХ века — диктатуры профессора экономики Коимбрского университета Антонио Салазара.
Этот португальский университет более чем на десятилетие стал главным каналом рекрутирования правящей элиты, а сам Салазар — чтобы укрепить метафорику университетской автономии — уже будучи диктатором, ежегодно приезжал к ректору с просьбой о продлении академического отпуска еще на один год.
Итак, вот три метафоры, которые я бы выделил сегодня: университет как инструмент социальной инженерии, университет как корпорация, университет как политическая партия. Эти модели самоосмысления приходят на смену «старым» ресурсам воображения. Подчеркну: с Ронкальского сейма и до Второй мировой войны — а это почти вся университетская история — университет являлся тем местом, где производились картины мира и языки его описания (от религиозных утопий до националистических идеологий). Университет остался таким местом и в послевоенной Европе, однако теперь он в гораздо большей степени является объектом описаний. Даже тогда, когда эти описания производятся на им же созданном языке.
postnauka.ru/longreads/13096