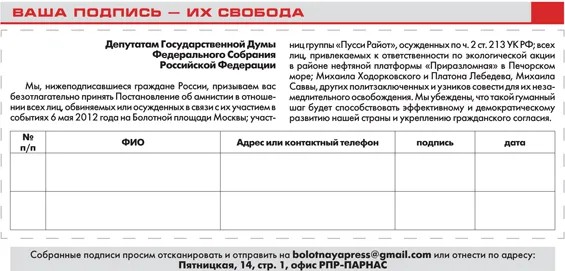В прошлом номере «Новой» была опубликована первая часть интервью с Людмилой Михайловной Алексеевой, речь в нем шла о необходимости широкой амнистии — и обязательно с акцентом на политические процессы. Сегодня — разговор о «болотном процессе», о том, чем нынешние репрессии отличаются от хрущевско-брежневской эпохи и почему фигуранты «дела 12-ти» — не меньшие герои, чем правозащитники-шестидесятники.
— Последнее время я не была на заседаниях по «болотному делу» — проблемы с давлением, но врач обещает, что я переживу этот осенний период и все-таки смогу ходить на процесс, как ходила до этого. Но я была на приговоре у Михаила Косенко, там судья была отвратительная…
— В чем разница работы следствия, которую вы наблюдаете сейчас, будучи зрителем в зале суда, с тем, что было пятьдесят лет назад, когда вы сами регулярно ходили на допросы?
— В Советском Союзе никто не судил по закону и не было никакого пиетета перед законом, но там были подзаконные акты, нам, гражданам, неведомые, а государственным чиновникам известные. Что КГБ, что следствие, что прокуратура исполняли эти свои внутренние инструкции. Я не говорю, что это хорошо, это все равно не правовое государство, но, понимаете… Вот я, рядовой гражданин, которому эти акты неизвестны, тем не менее могла, например, по поведению следователей вычислить, что у них там, в этих инструкциях, пишется: какие есть ограничения, табу, которые они не смеют преступить. У меня было два таких случая, когда я для своего спасения использовала эти подзаконные неведомые мне правила, просто-напросто просчитанные мною. А сейчас — нет никаких норм, правил, ничего не просчитаешь. И сейчас мне вряд ли удалось бы выкрутиться… Я ведь один из тех редких экземпляров активных правозащитников, которые не сидели.
— Но вам пришлось уехать из страны…
— В 1974 же году меня предупредили, что на меня заведено дело по статье 70 Уголовного кодекса СССР (антисоветская пропаганда.— Ред.), и, значит, я вот-вот сяду, если не прекращу активную деятельность. Я ничего не прекратила, но меня не посадили, а в 77-м году мы уехали. Полагаю, это мое личное везение. Очевидно, просто повезло с куратором из КГБ, который тайно мне симпатизировал. Он понимал, что спасти совсем меня не сможет, но решил, что лучше выдавить из страны, а не посадить. И сделал это тоже по-благородному… Они же прослушивали наши телефоны и, как потом я убедилась, и нашу квартиру… Представляете — какое удовольствие жить в квартире, которая 24 часа в сутки прослушивается. Неизвестно кем.
— Ну в этом отношении мало что изменилось…
— Они знали, что мой муж и сын хотят уехать, а я тяну всеми возможными способами. Вот они и сработали так, чтобы я все-таки приняла решение. Они ставили меня в такое положение, когда я понимала: вот-вот арестуют сына, который ни в чем не виноват, кроме того, что он мой сын. Сама для себя решила: меня, конечно, посадят, — ну и ладно…
Вот почему, кстати, я считаю ребят с Болотной площади героями — потому что, когда нас сажали, мы были к этому готовы. Потому что, когда ты начинал заниматься правозащитой, ты знал — рано или поздно сядешь. Не хочешь — не занимайся, живи как все, вот и все. А если у тебя шило в заду, так будь готов сесть.
И я была психологически готова, но я не была готова к тому, что арестуют сына, который, если бы вырос в другой семье, был бы благополучным научным сотрудником, а тут он, понимаете ли, сумку с книжками «Архипелаг ГУЛАГ» переносит, потому что маме тяжело, он сам понесет. Ну и если его поймают с этой сумкой — семь лет лагерей и пять лет ссылки. А мне даже повеситься нельзя, потому что надо кому-то передачу носить. Вот из-за этого и уехала.
— И все-таки, несмотря на разницу стилей в работе следователей, можете рассказать: как вы вели себя на допросе?
— 1967 год, меня вызывают на допрос. А надо сказать, что я заведомо была в проигрышном положении: моя фамилия ведь на «А», а они — бюрократы, составляют список, кого будут допрашивать, по алфавиту. Так что я всегда оказывалась среди первых. Получаю повестку и всю ночь не сплю — думаю, чего они узнали, до чего они докопались? А придешь, спрашивают: вы знаете такого-то? А я с ним и не знакома — выхожу от следователя и говорю всем: ой, ребят, это по поводу Гершовича вызывают, и все уже идут, зная ситуацию, в отличие от меня, — я-то шла в неизвестность. Но тут вызывают по Гинзбургу, а с Гинзбургом — хуже, с Гинзбургом я была действительно связана. Следователь — мне: вы разговаривали по телефону с Александром Гинзбургом и вы сказали ему то-то, а он ответил вам то-то, и так далее. Гинзбург уже арестован. Спрашиваю: с чего вы взяли, что был такой телефонный разговор? Он мне показывает машинописную распечатку: ну, банально прослушали разговор и сделали расшифровку. Я, конечно, прекрасно помню этот разговор, но прикидываюсь: а что это за бумажки такие, не понимаю? Он — ваш разговор. Я — какой разговор, ерунда какая-то… Короче говоря, валяю дурака, и следователь прекрасно это понимает: несколько раз и так мне задавал вопросы, и так, а потом со злобой комкает распечатку, кидает в корзину с мусором. Оказывается, они, как мы потом убедились, не могли использовать распечатки разговоров как документальное доказательство. Сейчас же прекрасно билинги (и не только) используют. А тогда нельзя было — надо, чтобы человек на допросе сам подтвердил факт разговора, причем два подтверждения требовалось: применительно к данному моему случаю — и я, и сам Гинзбург должны были признаться. А если мы оба говорили, что не знаем, о чем речь, то он эти распечатки и должен был выбросить в корзину, хотя и прекрасно понимал, что я, скорее всего, вру. И вот эта необходимость двух свидетелей была железным правилом, хотя ни в каких законах не записана, — но играть на этом можно было, особенно обладая актерским мастерством.
— А второе обвинение, которое вам инкриминировали?
— Второй случай касался 14-го номера «Хроники текущих событий». На одиннадцатом номере была арестована Наталья Горбаневская, и 12-й готовил кто-то другой. Я прочла и возмутилась, потому что это было плохо — что, у нас профессиональных редакторов нет? Ну и так как я тогда работала редактором в издательстве «Наука», то Ира Якир и Ира Белгородская решили попросить меня, чтобы я новый номер почистила. Позвонили, приехала к Ире Якир на квартиру, зачем они меня звали, не знала, — сказали только: приезжай чай пить, — так что понимала: значит, есть какое-то дело. Они мне и дают очередной номер «Хроники», я просидела над ним до шести утра.
После 26-го номера пошли аресты, арестовали Петю Якира (так началось «дело № 24» по «Хронике»), затем — Иру Белгородскую, и она дала показания, что мы втроем: она, Ира Якир и я — редактировали тринадцатый номер. Меня вызвали на допрос. Но я следователю говорила, что понятия не имею, о чем этот разговор: какой еще 13-й номер «Хроники»? Он: а вот Ирина Белгородская говорит то-то и то-то. Я отвечала: не верю, не может быть, она порядочная женщина и моя подруга, не могла дать такие ложные показания. Мне приносят записку: «Людочка, я даю показания». Говорю следователю: «Это — подделка». Тогда назначают очную ставку.
Тяжелый был момент: Ира с таким ужасом на меня смотрит и думает, наверное, что я ее осуждаю. Но как можно осуждать человека, которого арестовали? Кидаюсь к ней с объятиями. Нам кричат — нельзя, разойдитесь… А Ира рассказывает: «Людочка, я правда все это рассказала, потому что они обещают, что никого арестовывать не будут. Они только хотят, чтобы мы прекратили выпускать «Хронику».
А я — по лучшим рецептам Станиславского: «Ирка, ты чего, какой 13-й номер? У тебя галлюцинации, что ли?» Она смеется. Следователь злится: «Но Белгородская говорит, что данный факт был, и как вы может это объяснить?» «Тайна это для меня, — отвечаю. — Этого никогда не было, и я не знаю, почему она так говорит».
— А что же третья ваша «подельница»?
— Ира Якир тоже отказалась от всего. И знаете, чем все кончилось? Ирку выпустили, и нас двоих не посадили. Потому что им надо было, чтобы хотя бы два человека дали слабину.
А сейчас разве есть такое правило? Сейчас следователи что выдумают, то и запишут в свой протокол, несмотря на то, что все говорят: этого не было, но следователи все равно утверждают: было. Такого беспардонного вранья, как сейчас, все-таки тогда не допускали. Тогда у них все-таки были внутренние правила, которые соблюдались. Хотя все равно, конечно, тяжело было: я пришла после очной ставки, как вошла в дом, так рухнула на постель и спала часов 11 наверное. А дальше — ожидание.
— Вы сохранили отношения с теми, кто давал на вас показания?
— Слушайте, ну как я могла ее винить, когда она в тюрьме была? У меня не было злости, я ее очень жалела.
— И как на фоне диссидентов советской эпохи смотрятся современные политзаключенные?
— Ребята «болотного процесса» — герои, они удивительные люди. Меня это просто в восхищение приводит. Представьте себе: там огромная толпа, хватали кого попало. Ну и в итоге арестовали сколько-то случайных человек, за исключением Константина Лебедева, который — совершенно точно заранее засланный человек, специально приставленный к Удальцову, — негодяй какой-то. Остальные-то — все герои, включая Развозжаева: ну дал он вначале слабину, но потом-то спохватился.
— Развозжаев искренне опасался за свою жизнь, и ведь никто так и не знает, где он был, когда его похитили, в каком подвале…
— …И он понимал, что его могут убить, и даже никто знать не будет, где и когда. У меня к нему никаких претензий, наоборот, на него так давят, они мучают его больше, чем других. Ему столько досталось, и он все выдерживает.
Так вот, я продолжу. Случайно выхваченные из огромной толпы ребята оказались как на подбор, никто не скис, не сломался. И не только они, но их родители, их девушки, их знакомые, их сослуживцы — все они потрясающие, красивые и сильные люди. Я с уважением отношусь ко всем, кто приходил на Болотную площадь, и делаю вывод из этой «нерепрезентативной выборки», устроенной СК: значит, что подавляющее большинство тех, кто приходил 6 мая, — такие же.
— И власть борется с ними сейчас, как прежде с вами.
— Голубушка моя, а когда у нас легкое-то время было. Мне 86 лет, его не было, когда я маленькая была, не было, когда я молодая была, и сейчас нет. Просто у нас такая страна, она не приспособлена для счастливых людей, но ее надо сделать такой, чтобы в ней жили счастливые люди. Вот видите: мои два сына уехали в Америку, мне от этого горько, потому что мне бы хотелось, чтобы им здесь нравилось жить.
— Сергей Кривов — один из узников «болотного дела» — голодает уже больше 50 дней, Барабанов мучился из-за проблем с глазами, но не мог заявить ходатайство, Акименков слепнет… Судья это все знает, может ли она все-таки быть человечной?
— На эти процессы определяют специальных судей, у которых все человеческое вытравлено… Ну посмотрите на эту безобразницу, которая ведет суд. Когда ей говорят: нас морят в этих «стаканах», в этих автозаках, — она отвечает, что это ее не касается. Как это тебя не касается, прости, почему нас — простых людей — это касается, а судью не касается? А собака возле клетки — это демонстрация хамства. Зачем собака, они что — опасные, эти ребята?
— Одна из мам подсудимого «болотного процесса» рассказала мне, что когда они сидели в кафе у Никулинского суда, то видели, как ребят выводят из автозака, как у них подгибаются ноги, оттого что они долго сидят в одном положении, они прищуривают глаза, потому что долго были без света, а в зал суда они заходят, улыбаясь, будто не было ничего этого с ними…
— Я на них без слез нежности, любви и восторга просто смотреть не могу. Я носила значок «Свободу узникам 6 мая», а потом у одного парня увидела «Свободу героям 6 мая» — теперь с ним хожу, он мне его подарил. Я преклоняюсь перед ними — все разные, и так принять свалившуюся на них неведомую судьбу, принять друг друга. Я вижу, что они в тюрьме духовно выросли — так же, как и Ходорковский.
Может быть, у них даже гордость появилась за то, что им такая судьба выпала. Это очень хорошо говорит не только об этих ребятах, но и о нашем обществе в целом. И я этому рада, потому что все время пишут о том, как у нас выродился народ: никаких идеалов, ничего святого… Вранье! И для меня это очень важно — потому что вообще то, что я дожила до этих больших шествий, до ребят из «болотного дела», до волонтерского движения, — значит, я не зря жизнь прожила. Потому что если бы этого не было, то, значит, мы, шестидесятники, — дураками народились и помрем, как говорится, не оставив следа. Но — видите как: получается, эта эстафета продолжается, причем эстафета не от одного человека к другому — а веером.