- Рубрика: Кожа времени. Читать все материалы
Несколько лет назад Филип Рот, не дождавшись давно причитавшейся ему, по слухам, Нобелевской премии, объявил о выходе на пенсию. Это решение среди писателей было бы беспрецедентным, если бы не одно исключение. Я имею в виду любимого поэта Брежнева Егора Исаева, который публично объявил, что бросает стихи ввиду полного безразличия к ним читателей — не в связи с цензурой, а после ее отмены. Любопытно, что оба автора, которые вряд ли догадывались о существовании друг друга, прибегали к одному аргументу.
— Всю мою жизнь, — с горечью признался добравшийся до 80 Филип Рот, — я ориентировался на нормальных людей, которые перед сном читают часа два. Узнав, что таких почти не осталось, я бросил перо и ушел в отставку.
Мне трудно ему не сочувствовать, потому что я и сам других не знал. Череда уходящих к Гутенбергу поколений каждый день занимала себя чтением, считая книгу незаменимым счастьем. Я рос с этим убеждением, твердо зная, что так будет всегда. Да и как могло быть иначе, если все взрослые говорили о книгах. В оттепельные годы имена и названия служили паролем и объединяли интеллигенцию, образуя единственную оппозиционную режиму партию. Это были не только книги Хемингуэя, Фолкнера или Белля, но и «Счастливчик Джим» Кингсли Эмиса или «Четвертый позвонок» Марти Ларни. Все доставали, одалживали или крали одинаковые книги, чтобы читать их с сектантским упоением. Пожалуй, я и сегодня могу восстановить течение времени (как на пне с годичными кольцами) по книжным приметам — будь то лето «Кентавра» или зима «Зимы тревоги нашей». И это еще не считая самиздата. Я прекрасно помню, как часто находил в себе силы оторваться от подушки лишь потому, что надеялся вечером к ней вернуться с книгой.
— Мартын, — писал Набоков, — был из тех людей, для которых хорошая книжка перед сном — драгоценное блаженство.
Найдя этот абзац в «Подвиге», я понял, что норма была всегда и не зависела, как я было подумал, от природы власти. Два вечерних часа с книгой были для нас сакральным временем. Но вот, как с печалью констатировал Филип Рот, все кончилось, и два заповедных часа отошли конкуренту.
— Вы заметили, — спрошу я честного читателя, — что, встретившись с друзьями, мы уже спрашиваем, не что они читали и даже не какой фильм смотрели, а — с каким сериалом они живут.
Характерно, что в Америке лучшие прозаики — как Франзен, и режиссеры — как братья Коэн, подбираются к сериалу с двух сторон, но с одной целью: воссоздать мир запойного читателя, ставшего зрителем и не заметившего этого.
Чтобы открыть секрет сериала, нужно оторвать его от смежной, но посторонней мыльной оперы, которая относится к постмодернистским жанрам. Мыльная опера — дитя радио. Она родилась от нужды, когда фабрикантам стирального порошка понадобилась сюжетная рама для рекламы, обращенной исключительно к женской аудитории. Собрав успешный набор приемов, мыльная опера не отказывалась от них и тогда, когда перебралась на голубой экран. В ее арсенале — запутанная вязь незаконных любовных отношений, привычный актерский состав, постоянный, как набор родственников, задушевная манера общения, приоритет диалога (женщины любят ушами) и общая неторопливость повествования, рассчитанного на вечность. За таким зрелищем можно следить, поглядывая на экран, пока стирается белье и варится обед.
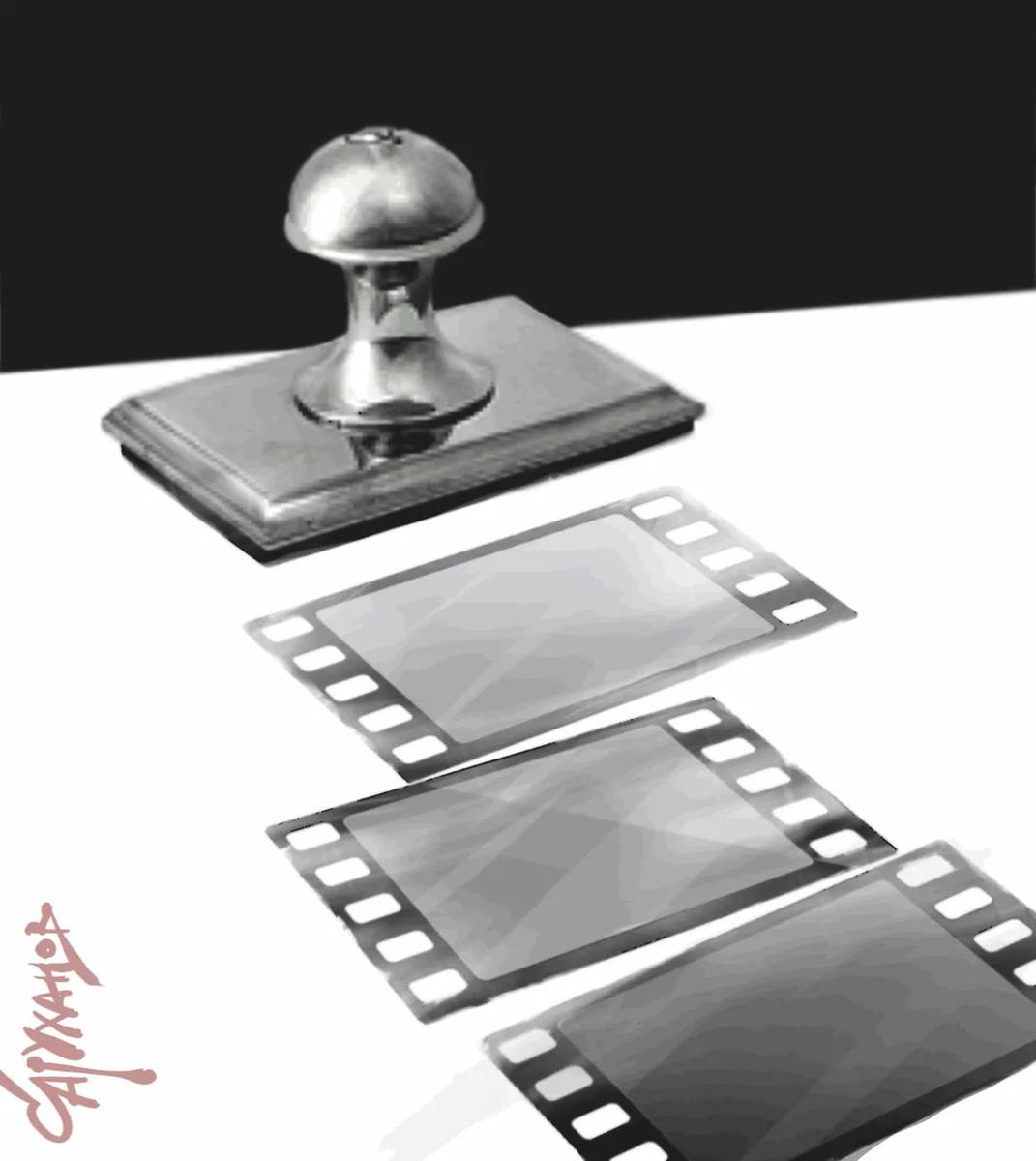
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68
Однако в разгар борьбы с «мертвыми белыми мужчинами» феминистки открыли и полюбили мыльную оперу, признав в ней чисто женскую, вроде вышивания крестиком, версию массового искусства. Эта — немужская — эстетика пользовалась нелинейным повествованием и бахтинской полифонией. В мыльной опере каждый, а не только положительный герой, располагает правомочной и убедительной точкой зрения. В рамках этого предельно своеобразного жанра, никто не может победить окончательно, и это значит, что до тех пор, пока белье пачкается, мыльная опера бессмертна.
В отличие от нее, сериал — брат книги и кузен кино — плод долгой эволюции и череды кризисов, спровоцированных прогрессом.
Старея, каждое зрелище стремится стать зеркалом. Театр Шекспира не походил на жизнь, потому что елизаветинцы еще не открыли реализм, позволивший Островскому заселять сцену купцами, пьющими на ней чай. Явление и взросление кино увело действительность с подмостков и перенесло ее на белый экран. Ограбленный театр стал бедным и обратил аскетизм в символ веры. У Беккета на сцене нет почти ничего: дерево с одиноким листом, два мусорных ведра, магнитофон, яма в земле. Да и действия в его театре не больше: ничего не происходит и ничего не меняется, кроме зрителя, разумеется.
Оставшись без крыши, драма перебралась из театра в кино, научившееся правдоподобно, как у Хичкока, рассказывать самые головоломные истории. Я до сих пор люблю старое кино. Лучшее в нем — условный, будто в балете, язык, с помощью которого фильмы, обычно в Голливуде, пересказывают жизнь так, что она бесспорно узнаваема и бесконечно далека от нашей.
Борясь с наивностью эскапизма, кинематограф высокого модернизма искал себя вне слов и сюжета. Стремясь обрести собственный, а не заимствованный у других муз словарь, кино обходилось картинками, как Параджанов, или пейзажами, как Антониони. Сюжет вернулся на большой экран, когда появились новые мастера большой, ветвистой, катарсической драматургии: Кесьлевский, фон Триер, Тарантино.
Между тем, пока качели нашего любимого искусства летали туда-сюда, незаметно, словно рассвет в тумане, окреп сериал, заманивший зрителя на малый экран, оторвав нас от большого.
Эта война малозаметна, потому что сериал не заменяет кино и не выдает себя за него. Фильм, как и предшествующий ему спектакль, оперирует разовым эмоциональным и интеллектуальным залпом. Кино — тотальный опыт пассивного погружения в искусственную (темную) среду. Входя в зал, ты сдаешься фильму, обещая без крайней нужды не отвлекаться. Сейчас, правда, кинотеатры, столкнувшиеся с конкуренцией малого, но быстро растущего экрана, переживают ренессанс роскоши. Чтобы превратить рядовой поход в кино в нечастый праздник, новые залы предлагают лежачие кресла, как в первом классе самолета, и горячий, как там же, обед с выпивкой. Но вряд ли это им поможет.
Сериалы берут другим. Они требуют от зрителя сразу и меньше, и больше. С одной стороны, мы смотрим их на тахте и в халате, с другой — они ждут от нас терпения и верности. Это — ленивое и растянутое развлечение, причем длительность его, исчисляемая не часами и минутами, а будничными вечерами и выходными днями, составляет субстанциональный признак сериала. Он дробится и тянется, организуя наш досуг на своих условиях. Войдя в домашнее расписание, сериал обещает безболезненное и комфортабельное перемещение в альтернативную вселенную. Совершенно не важно, какую именно: любовные интриги, детективные истории, политические дрязги — все равно. Главное, что сериал — это всерьез и надолго. Он делает вид, что на экране все взаправду, мы притворяемся, что ему верим.
Наивность такой поэтики — тихое отступление, сладкий откат, каникулы души, уставшей от безжизненных вершин искусства. Добравшись до них, мэтры давно распрощались с устаревшим мастерством прямодушной условности. Ее разрушали лучшие художники последнего столетия — такие как Пикассо или Джойс, Брехт или Феллини. Вскрывая собственную подноготную, их искусство обнажало прием, демонстрируя магию вымысла и разоблачая ее.
Сериал устроен проще и надежнее. Отступив назад, он оказался как раз там, где царил его ближайший аналог: викторианские романы. Вопреки прилагательному и благодаря форме, к ним относятся не только шедевры Диккенса и Теккерея, но и Толстой с Достоевским. Все они построены одинаково. Запутанные, хитроумные, многолюдные, умело расчлененные, они рассчитаны по главе на вечер, если, конечно, не пускаться в запой, как это было у меня в юности с Достоевским, которого я читал, не отрываясь на сон, еду и карты. Как смотреть — только наше дело, ибо сегодня сериалы, окончательно оторвавшись от телевидения, всегда дожидаются нас, как романы в библиотеке.
Добившись самостоятельного статуса, сериал произвел неожиданный переворот: арьергард взял реванш, искусство обратилось вспять, и художественный вымысел с наслаждением повторяет прежние ходы, начиная — и это мне нравится больше всего — как Вальтер Скотт и Пушкин с исторического жанра.
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68