Читайте Коржавина в чисто терапевтических целях!

Либерал и государственник, демократ и империалист. И это совсем не то, о чем он мне говорил в интервью 1991 года: «Плюрализм в одной голове — уже шизофрения». В коржавинской голове всё — самое противоположное! — сплетается и уживается естественно и органично. Потому что есть в наличии огромная дисциплина ума и сущностный взгляд на вещи, именно сущностный, а не с точки зрения группового (корпоративного) сознания.
И, по собственному свидетельству, он говорит о том, о чем хорошо подумал, а не о том, что только-только пришло в голову.
Позвонил недавно из Америки: «Они путают власть и страну. Ненависть к власти переносят автоматически на народ». Это про нашу интеллигенцию. Ей от Коржавина доставалось и достается: «Интеллигенция сама виновата, что проиграла. В том, что сегодня случилось, — много ее вины и проигрыша. Интеллигенция проповедует слова и мысли, которые сама не понимает».
О наших «условных» демократах во власти и при власти: «Они думали, что народ обязан их любить только за то, что они демократы. Что бы они ни делали. А когда обнаружилось, что любви они не вызывают, стали объяснять это тем, что народ — дерьмо. Но если народ — дерьмо, то для кого и с кем они хотели и хотят устроить демократию?»
И еще — очень важное! — про Сталина: «Никто из сталинщины не вышел без потерь, и я не исключение. Россия может выжить, только если она со стыдом изрыгнет Сталина. Россия после Сталина — это женщина, изнасилованная сифилитиком».
Знаю: Коржавин действует на людей терапевтически. И вот исключительно в терапевтических целях надо прочитать только что вышедшую прекрасную книгу « Наум Коржавин: Все мы несчастные сукины дети. Байки про Эмку Манделя, собранные Лешей Перским» (Составитель Л. Перский. М., 2017) .
Я познакомилась с Наумом Моисеевичем Коржавиным в доме Леши Перского и Люси Польшаковой. Леша сорок лет дружен с Коржавиным, а Люся еще больше, с детства. В перестройку, когда эмигранты стали возвращаться, Коржавин, приезжая в Москву, по нескольку месяцев много лет подряд жил у Леши и Люси.
Леша Перский — гендиректор одной из дочерних компаний Интерфакса. Продюсер двух документальных фильмов о Коржавине.
Наум Моисеевич Коржавин — автор «Новой», в первый год создания газеты ее собственный корреспондент в Америке, наш любимый поэт и очень близкий друг.
Мы никак не могли не откликнуться на новую книгу о Коржавине и публикуем отрывки из нее.
Читайте и оздоровляйтесь!
Зоя Ерошок , «Новая»
####22 июня 1971 года
Свет похож на тьму, В мыслях — пелена. Тридцать лет тому Началась война.
Диктор — словно рад… Душно, думать лень. Тридцать лет назад Был просторный день.
Сколько средь полей У различных рек Полегло парней, Молодых навек?
Что осталось?.. Быт, Суета, дела… То ли совесть спит, То ли жизнь прошла…
<…>
Протокол допроса обвиняемого Мандель Наума Моисеевича от 26 февраля 1948 года Допрос начат: в 11 час. И окончен: в 15 час.
Ответ: Родился я в 1925 году в гор. Киеве. В г. Киеве же окончил 8 классов, после чего летом 1941 г. в связи с приближением немецких войск к Киеву вместе с родителями эвакуировался на Урал в гор. Сим Челябинской области. В этом городе в 1942 году окончил девятый и десятый классы и одновременно работал на заводе №132 в качестве литературного сотрудника в редакции заводской газеты «За победу». С октября 1942 года я устроился работать в цех этого завода фрезеровщиком, параллельно работал в редакции газеты. В этих должностях работал до сентября-октября 1943 года, затем был призван в Советскую армию.
Вопрос: В каких частях вы служили?
Ответ: В 384-м Запасном стрелковом полку в гор. Камышлове Свердловской области.
Вопрос: Сколько времени вы служили в указанном полку?
Ответ: В течение двух месяцев. Затем из армии был уволен по болезни (порок сердца) и направлен на работу в Егоршинский район Свердловской области. Здесь я работал на шахте чернорабочим <…>.
<…> Я познакомился с Эмочкой, когда мне было шестнадцать, а ему девятнадцать. Он ходил в огромном пиджаке, надетом прямо на голое тело, был похож немножко на свинью и все время читал стихи, которые мне сразу понравились.
Берестов
В Литинститут меня сначала — в 1944 году — не приняли. Потому что… Ну понятно почему! Даже директор сказал, что вам надо уголь грузить. Ну испугался он. А я тогда дурак был, всем всё читал, потому что если писать и не читать, то это бред. Стихи — это внутреннее обращение. Я читаю людям вовсе не от храбрости, не от героизма, не потому что думаю, что стихами что-нибудь изменю. Я читал их потому, что они из меня перли.
Одно мое мальчишеское стихотворение очень понравилось моим следователям за профессиональный термин «компромат». Они говорили: «Наум, прочти стихи про компромат».
Коржавин
####Восемнадцать лет
Мне каждое слово будет уликою
Минимум на десять лет.
Иду по Москве, переполненной
шпиками,
Как настоящий поэт.
Не надо слежек! К чему шатания!
А папки бумаг? Дефицитные! Жаль!
Я сам всем своим существованием —
Компрометирующий материал!
1944
<…> Константин Георгиевич Паустовский был, пожалуй, самым популярным писателем своего времени. Он жил тогда в Переделкине, на даче Федина. Приняты мы были. Моя спутница сказала, что я пишу хорошие стихи. Услышав это ничего хорошего не предвещавшее вступление, Константин Георгиевич попытался уйти в глухую оборону:
— Я не люблю слушать стихи.
Но в конце концов сдался:
— Ну ладно, одно стихотворение я еще могу выдержать.
И я прочел «Стихи о детстве и романтике» — практически об отрочестве и ежовщине — и победил. Паустовский несколько смутился, крякнул, сказал:
— Читайте еще…
Читал я тогда много. Он расспросил меня о моих делах, узнав, что я должен поступать в Литинститут, вызвался мне помочь и написал письмо директору института Ф.В. Гладкову, в котором рекомендовал меня с наилучшей стороны.
Письмо я передал. Потом, стоя за дверью, подслушал разговор на приемной комиссии. Докладывавший рассказал всю мою историю и предложил принять меня на… заочное отделение.
— А почему на заочное? — спросил Гладков. — Вы ведь говорите, что он талантлив.
— Да, но с ним трудно, — ответил докладывавший.
— С талантливыми всегда трудно, — возразил Гладков. — Что ж, нам одних бездарей принимать, чтоб нам легче было?
И я был принят.
Коржавин
Эмка был не от мира сего. Он носил куцую шинелку пелеринкой (без хлястика) и выкопанную откуда-то буденовку, едва ли не времен Гражданской войны. Говорят, одно время он ходил совсем босиком, пока институтский профком не выдал ему ордер на валенки. Эти валенки носили Эмку по Москве и в стужу, и в ростепель, и по сухому асфальту, и по лужам. По мере того как подошвы стирались, Эмка сдвигал их вперед, шествовал на голенищах. Голенища все сдвигались и сдвигались, становились короче и короче, в конце концов едва стали закрывать щиколотки, а носки валенок величаво росли вверх, загибаясь к самым коленям, каждый — что корабельный форштевень. Видавшая виды Москва дивилась на Эмкины валенки. И шинелка пелеринкой, и островерхая буденовка — Эмку принимали за умалишенного, сторонились на мостовых, что нисколько его не смущало.
Тендряков
Начальник военной кафедры нашего института полковник Львов-Иванов произнес на собрании фразу, ставшую потом легендарной. Речь шла о безалаберности студенческой вольницы, об отсутствии не то что военной, а вообще какой бы то ни было дисциплины.
— Дан звонок на лекции. Захожу в мужское общежитие. Сидит Мандель. Без штанов. Пишет стихи. Захожу в женское общежитие. Та же картина…
Сарнов
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68
<…> В Литинституте Мандель (будущий Коржавин) котировался едва ли не выше всех наших институтских поэтов. А ниже всех — наш комсомольский вожак Игорь Кобзев.
Борис Слуцкий предложил в этой связи такую формулу измерения поэтической силы: один мандель = сто кобзей. <…>
Сарнов
Чтобы не лишать читателя права составить мнение, приведем — для иллюстрации — произведение Кобзева.
Перский
Все, что Счастьем зовется, Все, чем век наш украшен, — Знаю, вызвали к жизни Руки Партии нашей.
Кобзев
<…> Мы любили Эмкины стихи, любили его самого. Мы любовались им, когда он на ночных судилищах вставал во весь рост на своей койке. Во весь рост в одном нижнем белье (белье же он возил стирать в Киев к маме раз в году), подслеповато жмурясь, шмыгая мокрым носом, негодуя и восторгаясь, презирая и славя, ораторствует косноязычной прозой и изумительными стихами.
Тендряков
####16 октября
Календари не отмечали Шестнадцатое октября, Но москвичам в тот день — едва ли Им было до календаря.
Все переоценилось строго, Закон звериный был как нож. Искали хлеба на дорогу, А книги ставили ни в грош.
Хотелось жить, хотелось плакать, Хотелось выиграть войну. И забывали Пастернака, Как забывают тишину.
Стараясь выбраться из тины, Шли в полированной красе Осатаневшие машины По всем незападным шоссе.
Казалось, что лавина злая
Сметет Москву и мир затем.
И заграница, замирая,
Молилась на Московский Кремль.
Там, но открытый всем, однако,
Встал воплотивший трезвый век
Суровый жесткий человек,
Не понимавший Пастернака.
1945
<…> Несчастные для страны первые послевоенные годы — 45-й, 46-й — я прожил счастливо. Это были по-настоящему студенческие годы моей жизни. Конечно, они были трудными, голодными, но счастью это не мешало — на то и студенчество. Год 47-й ничего такого не предвещал. Я закончил второй курс и впервые оказался отличником. Летом дали путевку в ялтинский Дом творчества, и я впервые купался в море. Но однажды ночью мне приснился сон, что меня арестовывают. Какая-то лестничная клетка, все говорят, что идут за мной, и я ощущаю безвыходную тоску, сродни той, какую потом испытал на самом деле.
Коржавин
####Стихи о детстве и романтике
Гуляли, целовались, жили-были… А между тем, гнусавя и рыча, Шли в ночь закрытые автомобили И дворников будили по ночам.
Давил на кнопку, не стесняясь, палец, И вдруг по нервам прыгала волна… Звонок урчал… И дети просыпались, И вскрикивали женщины со сна.
А город спал. И наплевать влюбленным На яркий свет автомобильных фар, Пока цветут акации и клены, Роняя аромат на тротуар.
Я о себе рассказывать не стану — У всех поэтов ведь судьба одна… Меня везде считали хулиганом, Хоть я за жизнь не выбил ни окна…
А южный ветер навевает смелость. Я шел, бродил и не писал дневник, А в голове крутилось и вертелось От множества революционных книг.
И я готов был встать за это грудью, И я поверить не умел никак, Когда насквозь неискренние люди Нам говорили речи о врагах…
Романтика, растоптанная ими,
Знамена запыленные — кругом…
И я бродил в акациях, как в дыме.
И мне тогда хотелось быть врагом.
30 декабря 1944
20 декабря 1947 года произошел арест. 2 часа ночи.
Мне предложили одеться, и тут же прозвучал идиотский вопрос: «Оружие есть?» Я буркнул: «Пулемет под кроватью». И услышал в ответ резкое: «Не острите. Отвечайте на вопрос». Начался обыск.
Коржавин
<…> Из рапорта капитана Воронова:
Арест на имущество арестованного МАНДЕЛЬ М.Н. не наложен ввиду того, что все имевшиеся у него вещи были взяты арестованным с собой в прием арестованных В/Т МГБ СССР (внутренней тюрьмы на Лубянке. — Л.П. ), а другого имущества не имеется.
Квитанция №1523/1 от 20.12.47, выписанная при поступлении Коржавина во внутреннюю тюрьму НКВД СССР
Принято от арестованного Мандель Наум Моисеевич
- Корзинка из прутьев 1 ш.
- Одеяло ватное 1 ш.
- Гимнастерка х/б 1 ш.
- Рубашки верхние 3 ш. х/б
- Брюки корич. шерст. 1 ш.
- Рубашки нижние 3 ш.
- Кальсоны разные 4 ш.
- Майка трикотажная 1 ш.
- Майка корот. рукав 1 ш.
- Трусы разные 4 п.
- Кашне шерсть 1 ш.
- Перчатка кожаная 1 ш.
- Бумажник кожаный 1 ш.
- Галстуки разн. 2 ш.
- Сумка сетка 1
- Мешок х/б 1
Первый после ареста допрос начался с фиксации (который раз за этот страшный день!) установочных данных: имени, фамилии, года рождения и т.д. И довольно скоро мне без всяких обиняков и подготовки было сделано предложение: «Расскажите о вашей преступной антисоветской деятельности». Вот так, за здорово живешь, как бы между делом — мне! — такое приглашение.
И я взвыл от обиды.
И я стал не оправдываться, а что-то очень горячо доказывать следователю, развивать свои мысли, разговаривать с ним как с человеком и товарищем. Он несколько ошалел от неожиданности.
К этому времени в комнате появился подполковник Братьяков, стал прислушиваться к разговору. И вдруг в ответ на сложные мои сентенции неожиданно изрек:
— У тебя голова полна говна!
Он, как и я, не знал, как он тогда был близок к истине… но отнюдь не истину он имел в виду. Фраза его была чисто профессиональной… Это был рабочий прием.
Но я этого еще не понимал и отнесся к его словам со всей серьезностью. <…> Я вовсе не смешался, а попытался понять смысл его слов, попытался вступить с ним в беседу на эту тему. Сказал, что, возможно, он и прав, и стал ждать, что он сейчас выложит мне все свои мысли, обоснования и аргументы. Тогда смешался он сам. Так я выиграл это состязание идиотизмов. Выработанный мной искренний идиотизм пересилил идиотизм его профессиональной выучки.
Ирреальности происходящего противостояла только ирреальность снов. <…> В первые дни меня все время тянуло в сон, точнее, к снам, как, вероятно, наркомана к наркотикам. Во сне я опять оказывался в общежитии, в нашем подвале и рассказывал ребятам, какой бред мне приснился. Но потом я просыпался, и бред оказывался явью.
Коржавин
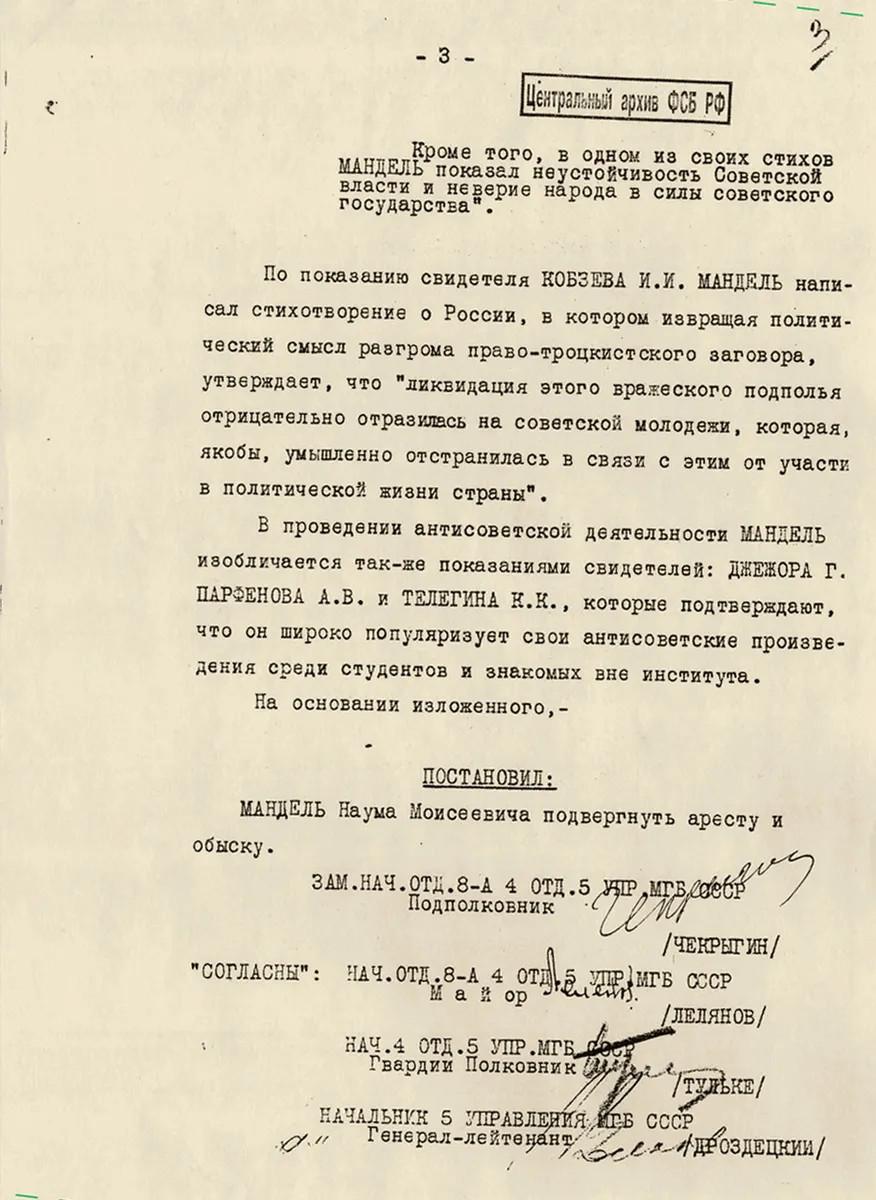
За что меня арестовали, странный вопрос. Менее странный вопрос — его в ссылке одна женщина говорила: «Были ли вы репрессированы советской властью, а если нет, то почему?»
<…> У меня статья была семь тридцать пять. Это смешно даже говорить, потому что статья 7 означает, что к лицам, не совершившим преступления, но по своим связям, прошлой деятельности или медицинскому состоянию могущим представлять опасность для социалистического государства, могут быть применены все санкции по статье 35. А статья 35 содержала список всех санкций вообще — от расстрела до ссылки.
Коржавин
Как раз в это время отменили карточки. Мы получили стипендию. И я купил вожделенную — давно мечтал — баклажанную икру. Съел полбанки. А потом меня увели. И мне было жутко обидно, что я не доел.
Коржавин
<…> Слава богу, на Лубянке была большая библиотека из конфискованных книг. Там я прочел много из Достоевского, полностью «Дневник писателя», «Жан Кристофа» и многое другое.
Когда я пришел в эту камеру, я застал там тома «Войны и мира». Меня по понятным причинам читать не тянуло. Но однажды я совершенно машинально взял в руки один из томов и открыл его на случайной странице. И тут же полностью погрузился в мир этого романа. И дело даже не в том, что я не мог уже от него оторваться, — просто я опять начал жить…Слава богу, что наши мучители не понимали этого исцеляющего воздействия хороших книг.
Коржавин
Продолжение следует
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68