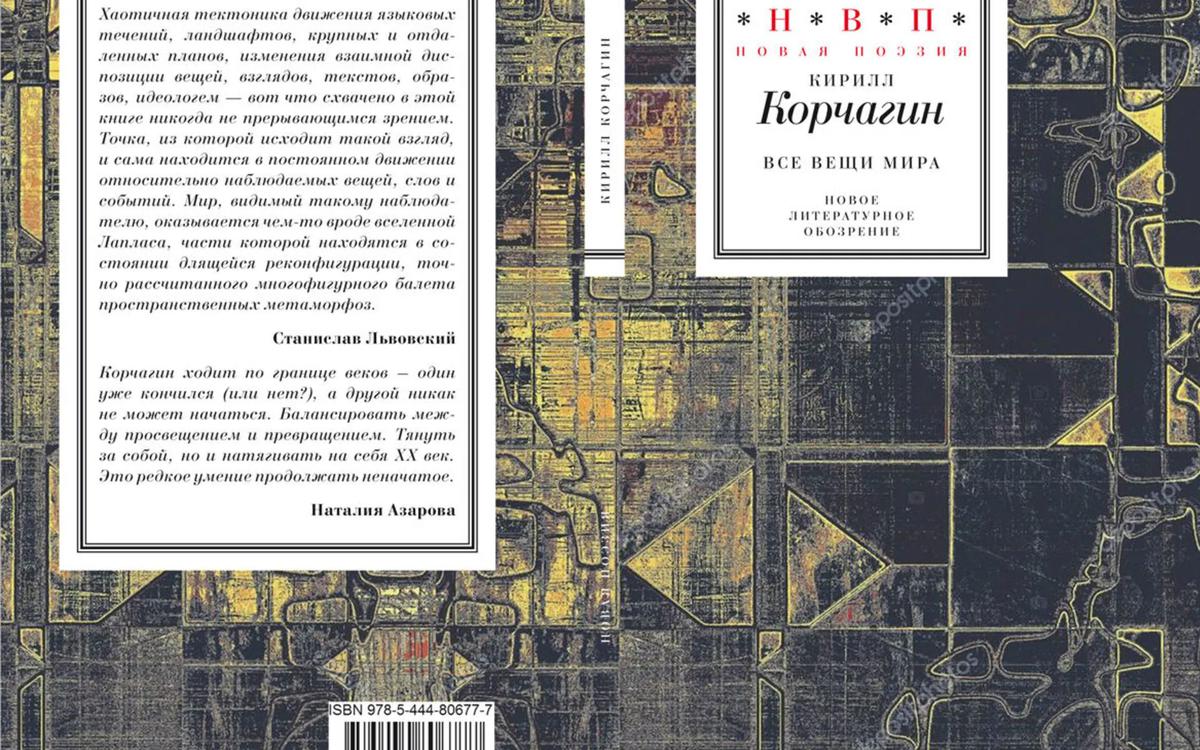Стратегия, по которой написаны эти стихи, и стратегия, которую можно разглядеть в самом Корчагине (премия Андрея Белого, правильная академическая карьера и открытое притязание на роль главного поэта поколения), кажутся до болезненности похожими. Холодная ритмичная отстраненность, буржуазная страсть к безоценочному перечислению, добровольная роль хроникера больших исторических процессов, а точнее — исключительно дотошное изучение репрессивного механизма, стоящего за всеми процессами. Эти стихи обнуляют значимость эмоционального опыта перед лицом истории. «Марксистское солнце», о котором пишет Корчагин, не только обеззараживает раны, но выжигает частное дотла:
сети искусства мирное зло, песок вымывающийся из плиточных стыков как песок в черноземной земле где едет кортеж в далекий аэропорт и поэтесса смеется над нами над нашим неловким богатством
и над крышами нависает огромный тверской бульвар и наматывают переулки веретёна взрывного ветра мы идем с тобою и наши колени болят и наши глаза болят от бескрайне марксистского солнца
но это не страшно — в центре земли живет наш король и согревает дыханьем своим наши дома, кабинеты фабрики наших хозяев — и куда бы мы ни пошли унылые хипстеры с преображенки нас будет встречать
эта земля виноградная, почва ее распространенная в пазухах грузовиков в катышках свитеров в сколах эмали в каждом движении к нам подступающих парков во флагах на площади ленина растущих над нами
и воздух будет звенеть и горячий ветер метро спутывать наши волосы как в далеком тридцать втором где глаза навсегда высветляет коммунальный струящийся лед и облака высоки и как никогда шелестящие фонтаны
Все вещи мира должны быть поименованы, перечислены не только как координаты частного сюжета, но объявлены виновными в злом роке, который Корчагин видит объединяющим поколение 30-летних. Все вещи мира знаменует несчастье как объективную, предсказуемую траекторию этого поколения, в их перечислении поэт не только пытается стать главным голосом этих угнетенных, но спрятать от читателя (или самого себя) наиболее репрессивный из всех механизмов — влияние частного аффекта на судьбу.
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68
Лишенный понятного ориентира, читатель сталкивается с путешествием через темную мутную воду, которая ничем не отличается от регулярного бытования в России. Все вещи мира склеены друг с другом, являются бессмысленным продолжением друг друга, потому что не находятся в прямой последовательной связи, их соединение друг с другом обусловлено только идеальным чувством слова.
Через этот зазор можно обнаружить главное содержание книги, и важнейшее означающее современности — тотальность культурного табу на откровенный разговор о чувствах в их примитивном изводе. Там, где любовное переживание не пытается растворить себя в тени Холокоста или в гниющих останках советской тирании, начинается постыдное безмолвие, преодолеть которое оказывается невозможным. И эта невозможность в стихах Корчагина лишь подчеркивается — не происходит даже попытки разговора. Отсюда удушающая власть предметов и их нагромождения над чувствами.
Есть интересный исторический поворот, в котором прямой разговор о гетеросексуальных (или в подавляющем большинстве гетеросексуальных) чувствах и чувственности присвоен пропагандой, и слова, способные говорить напрямую, оказались размыты, а единственной стратегией поэта может являться исключительное описание волокон, в адекватном времени (адекватной политической ситуации) служащих для соединения этих слов — например, в любовную речь. Здесь, сейчас остаются только эти мутные дороги, нарушающие ландшафт, тщательно избегающие любого из присвоенных враждебных поэту дискурсов слов. В этом избегании, отстаивании новой системы взаимоотношений предметов и их отражений, аффектов, вызванных вторжением внешним во внутреннее, и холодного выскальзывания из протокольного описания аффектов, может сформироваться тот новый протестный язык, об отсутствии которого часто сокрушаются политологи, — язык, отказывающийся от реконкисты, но осваивающий и одомашнивающий то, что осталось. Немногое из списка незараженного — для самосохранения — не описано в книге, и поэтому ее название можно было бы прочитать как «Все вещи мира [за исключением самых важных]». Но все же это не только способ защищать самое важное, но и в первую очередь самого себя от социальности, где не существует вещей более унизительных, чем чувства.
Исторический = политический поиск оказывается единственным способом проникнуть в разговор о «Я»; как разговор обо всем отдаленном, он наполнен неким романтическим флером, отсоединяющим вещи прошлого от нагромождения вещей сегодняшних.
сытые поэты северных стран северных годов сиятельные обломки стекающиеся к утренней звезде сернистыми облаками над утесами озерами скалами в тумане уст золотой голконды флейты и барабаны их бесконечных теннисных кортов незаконченных партий для левой руки но окруженные черными брызгами восточного семени сочащегося сквозь тоскующую валгаллу звучат клавиры поверх голов и в рецитации диктера гремит вокализ снарядов воскрешенными клавишами парализованного рояля разрезающие горы драконьи тропы вьются вокруг в сумерках сочатся пещеры свечением о звучи пиита побережья вымирающей сталью норда сотрапезник пены и туч отсече́нный рассветом от широты долготы освобожденный
То, что упомянуто как злой рой, объясняющий крах поколенческих надежд, прописывается через переход от ушедшего времени к созерцанию от первого лица настоящего времени. Но и этот фронтир упоминается исключительно как данность, в подобии тому, что сообщает нам Фуко о публичных казнях прошлого — необходимость преступника публично покаяться в преступлении. Покаяние и понимание не служат каким-либо прагматичным изменениям, но существует автономно, чтобы — возможно — однажды стать артефактом прошлого для нужд хроникера будущего.
Самый тоталитарный из процессов — сердечный процесс — скрывается за глобальными процессами в поисках оправдания. И именно в этой точке книга Корчагина действительно обретает очертания летописи постсоветского поколения — суммируя Овидия (хотя эпиграфом обманчиво отсылает к Катуллу), она пытается быть одновременно «Наукой любви» (Ars Amatoria) и «Лекарством от любви» (Remedium Amoris), назвать все вещи мира амбивалентными, непрозрачными для интерпретации, спрятать незащищенность человека за профессионализмом, все более подчеркивающим себя в тех местах, где требуется спрятать чувственность.
Илья Данишевский, специально для «Новой»
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68