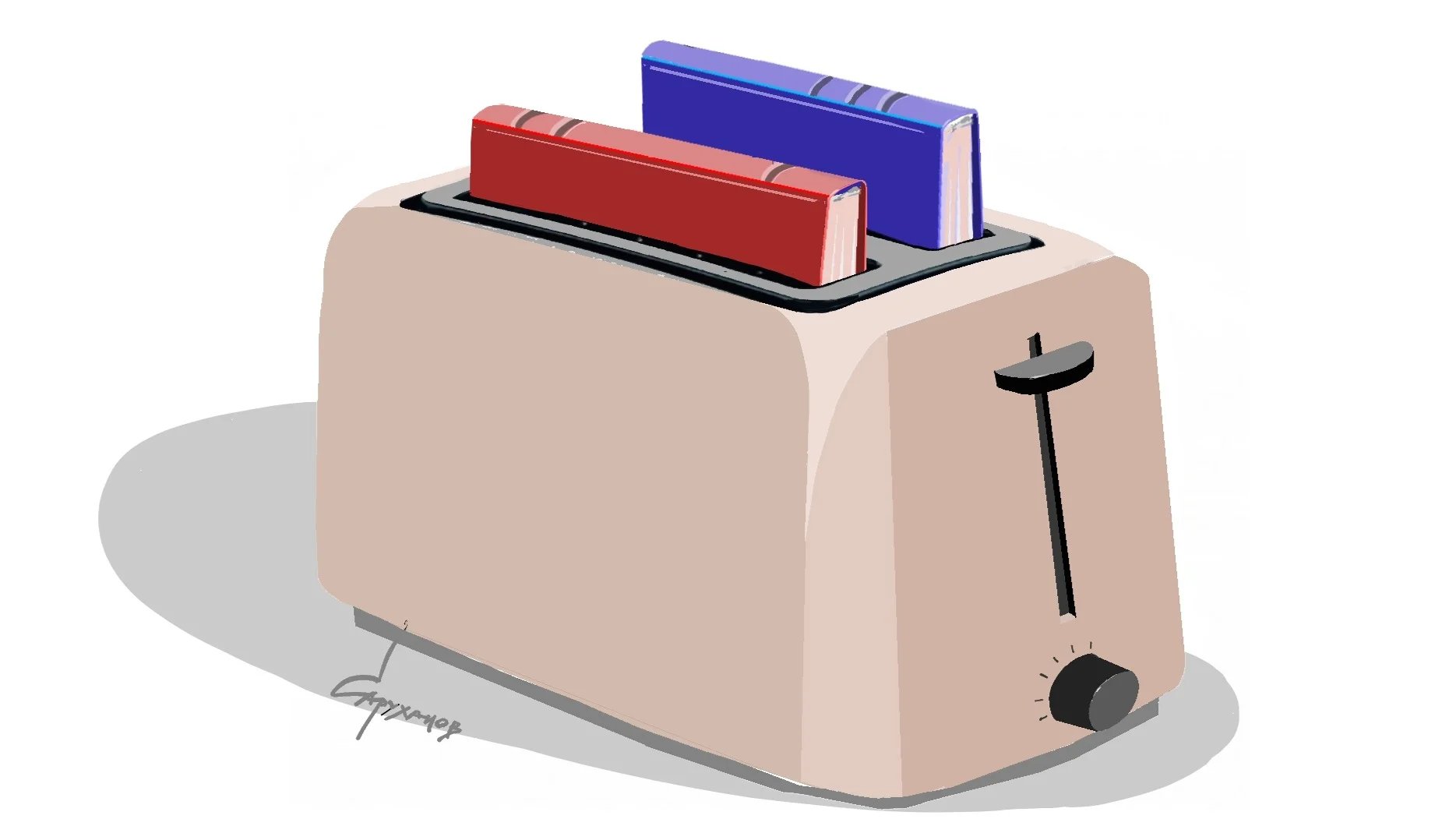1. Катаклизмы
«Германия объявила войну России. После обеда школа плавания», — занес Франц Кафка в свой дневник 2 августа 1914 года. И только четыре дня спустя, 6 августа, с трудом и вскользь замечает войну, которую еще никто не называл «мировой». «Я обнаруживаю в себе ненависть к воюющим, которым я страстно желаю всех бед». Но уже на следующий день опять нейтральная запись: «Уверенные шаги в плане плавания».
Меня задели эти следы в дневнике, ибо мы сейчас тоже стоим на краю. Однако я не в первый раз живу с ощущением исторического сдвига, который происходит без моего участия, но задевает весь мир вместе со мной. Первый раз мне на это указал отец, с которым мы путешествовали по Карпатам в августе 1968-го.
— Смотри и запоминай, — велел он мне, указывая на колонну танков, ползущих по узкой австро-венгерской дороге, чтобы раздавить — вопреки календарю — Пражскую весну.
Я запомнил это лучше, чем Америка, где говорили, что «не вмешиваются в дрязги коммунистов». У них был Вьетнам…
А потом — 11 сентября. Это уже было совсем близко. Гарь от горевших «близнецов» неслась в наш дом, когда ветер дул с океана. Это я тоже не забуду.
Но сильней всего (конечно, до 24 февраля) меня потрясли три дня путча в 1991-м. В первом не было ничего такого уж странного. Все ждали, когда прикроют свободу. На второй день ее оплакивали. А вот третий перевернул меня и перечеркнул историю, опровергнув все отечественные клише о рабском народе. Теперь об этом не любят вспоминать — как о первой любви, окончившейся изменой. Но у меня на память о той победе лежит на столе камень из пьедестала поваленного Дзержинского. Если щепка от креста служит залогом вечной жизни, то невзрачный цементный огрызок, выковырянный для меня московскими друзьями из памятника, хранит надежду на повторение праздника.

Августовский путч. В ночь с 19 на 20 августа 1991 года. Фото: Геннадий Хамельянин / Фотохроника ТАСС
Столкновение истории с обыденностью — психологический казус, который вскрывает нашу жизнь, делая ее доступной наблюдению в часы зенита или надира. Самое трудное — понять, что они наступили, и не поддаться инерции быта.
А с другой стороны, что еще делать, когда события выходят за пределы того, что можно изменить? Посыпать голову пеплом? Порвать рубаху? Не чистить зубы?
Я не шучу, я не знаю, но понимаю, что мы не первые. Чтобы узнать, как катаклизмы проходят сквозь биографию, надо погрузиться в специально предназначенную для этого литературу — ту самую, где Кафка в одном предложении скрестил Мировую войну с бассейном.
2. Лем
Аристотель настаивал на том, что в каждом произведении должны быть начало, середина и конец.
— Не обязательно, — возразил ему Жан-Люк Годар, — в этом порядке.
Но дневник и вовсе обходится без подсказки Аристотеля. Он начинается, где хочет, и кончается, где придется, иногда вместе с автором, который находится в заведомо невыгодном положении.
Он не знает, чем все кончится — в отличие от читателя, который на день или век обгоняет автора и судит его из будущего.
Конечно, бывают книги, которые и сами не знают, когда и чем кончатся. Вроде бы так писал Станислав Лем. Когда прилетевший на космическую станцию герой «Соляриса» обнаружил там голую негритянку, не только он, но и автор понятия не имел, откуда она там взялась. В другой, одной из моих любимых его книг «Следствие» ненадолго оживают покойники. Как? Почему? Лем не сумел найти ответа до самого конца. Задумав написать детектив, он соблюдал все правила: умножал версии и разоблачал их, пока не осталось ни одной. И тут, чтобы свести концы с концами, Лем пустился во все тяжкие, присочинив к финалу новую теологию и гносеологию.
— Трупы, — предположил он, — «оживают» по воле Бога, который последний раз проявлял ее таким образом две тысячи лет назад в Палестине.
Отсутствие финала провоцирует Лема на создание вызывающе оригинальной концепции. Он придумал спорадически являющегося Бога, который существует иногда. Но и такая версия, идеальное евангелие агностиков, тоже неокончательная. И тогда Лем предлагает вариант, разрушающий физику.

Станислав Лем. Фото: Википедия
— Почему мы, собственно говоря, — спрашивает автор, — решили, что трупы не должны двигаться? Потому что это противоречит нашим представлениям об устройстве Вселенной? Ну и что?
Герой-сыщик, то ли наследник, то ли антипод Шерлока Холмса, в припадке экстаза восклицает: «Математическая гармония Вселенной — это наша молитва, обращенная к пирамиде хаоса. Во все стороны торчат куски бытия, лишенные всякого смысла, но мы считаем их единственными и едиными и ничего другого не желаем видеть».
Пристроив к детективной истории дерзкую гипотезу, Лем вывел повесть за пределы жанра в неожиданном для него самого направлении, но остался этим не доволен.
Что и понятно: писатель хочет быть хозяином, а не рабом своей книги. Хотя и во втором варианте есть свои преимущества.
Пытаясь их найти, я написал тонкую книжицу «Трикотаж». Ее выделяло насильное неведение. Я сознательно и настойчиво ограничил свои цели. Не гнал книгу к развязке, а писал, честно не догадываясь, что будет в следующей строке. Она возникала скорее из грамматической, чем семантической нужды, и мне оставалось с интересом следить за тем, куда меня вынесет текст, к которому я имел почти что косвенное отношение.
Я так и не решил, насколько удачен был этот эксперимент, но он позволил оценить достоинство случайного фактора в словесности, за которым безуспешно гонялись сюрреалисты с их «автоматическим письмом».
Какое это имеет отношение к дневникам? Прямое.
3. Дневник
Бродский говорил, что в прозе важно не что, а что за чем идет. Дневник уникален тем, что он сразу зависит и не зависит от намерения автора. Контекст здесь создает время, и балом правит календарь. Этим дневник отчасти напоминает классические стихи, где за поэта работает еще и просодия. Все, что не нашей работы, добавляет книге аромат искренности, оправданный вмешательством истории в биографию. Поэтому так интересно читать чужие дневники, но свои — еще интереснее.
У меня был знакомый нью-йоркский учитель, который страдал маниакальной потребностью вести дневник. Когда мы подружились, ему было под семьдесят, а дневников накопился целый шкаф. Дожив до старости, его хозяин потратил почти год, чтобы перечитать свою жизнь.
— И как результат? — не стесняясь, влез я.
— Ужасен! — закричал он. — Каждый день секс, вечеринки и танцы, коктейли и случайные знакомства.
Не поняв, хвастается он или жалуется, я задал самый горячий вопрос:
— Каким был самый счастливый день из всех прожитых?
— Сегодняшний, — грустно ответил он, и я опять ему не поверил.
Обычно в дневниках ищут то, что отражает перемены и притворяется судьбой. Но часто любопытно подсматривать и за всем остальным. Это как подглядывать в замочную скважину: что ни покажут, все интересно.
Среди разновидностей мемуарных свидетельств дневники занимают особое — интимное — место. Мемуары пишут для всех, письма — для их адресатов, дневники — для себя. Во всяком случае, так считается, хотя об обратном говорит тот факт, что они так часто доходят до читателей.
Если в обычной литературе автор предстает в облагороженном или (бывает и такое) обезображенном виде, то в дневнике ему вроде бы не перед кем прикидываться. Ведь это — честный разговор с собой, что, конечно, не исключает самообмана.
Мы знаем себя хуже, чем других, уже потому, что даже в зеркале отражаемся в чуть приукрашенном виде.
И все же дневник — самый доступный способ заменить книгу писателем. И в этом главный соблазн дневника. Нас волнует вся личность автора, а не та ее творческая часть, что заперта в собрании сочинений. В этом жадном интересе есть что-то нечистое, ревнивое, обидное и завистливое, но деться некуда: писатель тоже человек, как мы, что бы ни говорил Пушкин («Врете, подлецы: он и мал и мерзок — не так, как вы…»).
Федор Сологуб, боясь, что его личность заменит его же литературу — или вмешается в нее, говорил, что «лучше всего умереть без биографии». И дальше: «Я затем и хочу прожить 120 лет, чтобы пережить всех современников, которые могли бы написать обо мне воспоминания».
Не помогло.
4. Экстраверт
Я прочел фразу Сологуба в дневнике, который люблю больше других. Чуковский вел его почти семьдесят лет и оставил нам 2500 страниц. Самая интересная — первая часть, 1901–1929. Потом Чуковский, уже зная, что его могут прочитать другие и не те, был настороже и периодически вставлял хвалы пионерии.
Его дневник — самый многолюдный. В нем упоминаются тысячи имен, не считая тех, про которых в примечаниях пишут: «ближе не известны».
Толпа знаменитостей затапливает страницы, создавая кумулятивный эффект счастья и обмана. Издалека и с дивана нам эта дикая эпоха представляется звездной уже потому, что в ней выживало и творило столько талантливых людей.

Корней Чуковский. Фото: Владимир Савостьянов / ТАСС
Я узнал эту иллюзию, когда смотрел «Полночь в Париже» Вуди Аллена. Это кино — tableaux vivants, оно ближе всего к «живым картинам». Встречая на экране Фитцджеральда, Хемингуэя, Пикассо или Тулуз-Лотрека, мы приходим в неописуемый восторг просто от того, что их узнаем и видим в естественной среде обитания — как на сафари.
Чуковский отчетливо осознавал уникальность своего времени и искупающих его трагедию художников, вроде Репина, Ахматовой или Маяковского. Чувствуя свою ответственность перед будущим, он, выступая свидетелем, стерег и документировал каждую встречу про запас.
«Что-то я напишу сюда, когда вернусь вечером?» — спрашивает себя Чуковский, даже не представляя, что день может остаться не описанным.
Однажды мы с Бахчаняном и Эпштейном играли в машину времени. Каждому предлагалась возможность выбрать себе эпоху по вкусу. Я колебался между Танской династией и Афинами Сократа. Вагрич уверенно остановился на самом страшном в России 1918 годе, когда процветал футуризм, последним представителем которого назвал Бахчаняна Синявский. Неожиданно Эпштейн тоже выбрал то время, чтобы самому увидеть истоки катастрофы.
Чуковский рассмотрел ее со всех сторон, но люди ему все-таки были интереснее истории. Она служит скорее фоном и проскальзывает в текст боком, отчего становится ярче и резче, как всякий профиль. Вот запись от 14 февраля 1920-го: «Читаю Метерлинка, о звездах, судьбах, ангелах, тайнах — и невольно думаю: а все же Метерлинк был сыт».
А вот чуть позже, уже при НЭПе:
«Женщины дородны, у мужчин затылки дубовые… Из дуба можно сделать все что угодно — и если из него сейчас не смастерить Достоевского, то для топорных работ это клад».
Характерно, что от бед своего времени Чуковский защищается, как все мы сейчас, — книгами, причем на английском. Чем хуже дни, тем чаще упоминается Уолт Уитмен или Генри Джеймс. Чужая жизнь заслоняет свою. Но когда и она не помогает, остается, как исповедь в церкви, верный дневник: «Сейчас мне так нехорошо… что я засветил свою лампадку — сел писать эти строки — лишь бы писать».
5. Интроверт
Написанный отчасти в те же годы дневник Кафки, с которого началась эта партия, — прямая антитеза. Он принадлежит интроверту и кажется сомнамбулическим. Тут нет четких границ. Ни между дневником и прозой, ни между сознанием и подсознанием, ни между сном и явью: «Я как будто и сплю, и вместе с тем яркие сны не дают мне заснуть».
Редко замечая внешний мир, Кафка занят собой и одержим литературой, которую он толкует как мистическую практику. Это — выжимание истины из себя, потому что больше неоткуда. «Если б можно было, прибавив одно слово, отвернуться в спокойном сознании, что это слово целиком наполнено тобою».
Не в силах найти такое слово, он вынужден заменять его притчами, которые перекладывают толкование на плечи читателей, даже тех, которых не было.
Герой и автор этих притч сливаются, но не до конца, потому что Кафка все время подглядывает за собой из-за собственного плеча. Как, собственно, каждый писатель, который идет тем же путем, но не так далеко, глубоко и безнадежно. Боясь не вернуться обратно, Кафка спрашивал у своего дневника: что будет, «если отверстие, через которое ты впадаешь в мир, станет слишком маленьким или совсем закроется?»

Рисунок Франца Кафки. Источник: National Library of Israel
Этот страх себя подспудно владел и Чуковским. Страдая, как и Кафка, хронической бессонницей, он объяснял, в чем ее кошмар: «В неспанье ужасно то, что остаешься в собственном обществе дольше, чем тебе это надо. Страшно надоедаешь себе — и отсюда тяга к смерти: задушить этого постылого собеседника».
В старом Китае, о чем я вспоминаю каждый раз, просыпаясь в 4 утра,
предрассветный час был отведен «времени Инь». Считалось, что именно тогда завязывается сюжет нового дня, за которым нельзя подсматривать — как за любым зачатием.
Но именно этим занимался в своем дневнике Кафка. Всматриваясь в ночную сторону бытия намного пристальнее, чем в дневную, он пытался разглядеть причитающееся только ему место в жизни и не находил его. «Что у меня общего с евреями? У меня даже с самим собой мало общего…»
6. Мнемозина
Когда, наконец, я реализовал свою детскую мечту и отправился в Элладу, меня сопровождал советский разговорник и греческий путеводитель. Первый оказался бесполезным. В нем мне предлагали спрашивать в магазинах, есть ли у них сосиски, а у прохожих, как пройти в ЦК греческой компартии. Зато с путеводителем мне повезло. Составленный во втором веке уже нашей эры, он был полон знакомого нам антикварного энтузиазма, одушевлявшего любые руины.
Среди прочего Павсаний открыл мне секрет воспоминаний: сперва забыть и лишь потом вспомнить.
Прежде чем паломник получит прорицание оракула в пещере Трофиния, он должен напиться воды из источника Леты, «чтобы забыть о всех бывших до тех пор заботах и волнениях». И лишь потом он «пьет воду Мнемозины», чтобы запомнить все, что увидит в пещере. Ритуал требовал забыть, чтобы освежить вкусовые сосочки памяти ввиду предстоящего ей пира.
Этот рецепт годится для мемуаров, ибо они стирают сегодняшний день, не замахиваются на будущее и наслаждаются любым прошлым уже потому, что оно прошло, стало безопасным и принарядившимся.
Чаще других им наслаждался Набоков, обладавший, по его же признанию, «патологической остротой памяти». Тренировка ее была самостоятельным наслаждением, никуда не ведущим ни читателя, ни автора. Река его жизни текла вспять. И, по Набокову, это лучшее, что с ней, жизнью, могло случиться. Воспоминание превращало пережитое в экспонат, как бабочку, и спасало жизнь от самого страшного врага — времени.
«Ощущение благоденствия густого летнего тепла затопляет память. Эта ясная явь претворяет настоящее в призрак… Все так, как должно быть, никто никогда не изменится, никто никогда не умрет».
Застыв, как в холодце, в прошлом, автор ведет в настоящем зыбкое, не уверенное в самом себе существование. Описывая столбики балюстрады, между которыми он пролезал ребенком, он с усмешкой замечает себя сегодняшнего: «ныне и призрак мой, пожалуй, бы застрял».
Его мемуарная проза безоценочна и самодостаточна. Единственная цель автора — сделать прошлое сплошным, убрав сюжетную иерархию: все одинаково важно. Набокову все равно, что вспоминать, ибо восстановленное обладает равным достоинством. «Клозеты были отдельно от ванн, самый старый из них был довольно роскошен, но и угрюм, со своей благородной отделкой».
Читателю на этом празднике полагается быть безмолвным свидетелем храмового обряда: изъятия мемориальных объектов из Леты и подношение их Мнемозине.

Владимир Набоков. Фото: East News
Она была дочерью Земли и Неба (Геи и Урана). Унаследовав от родителей двойственную природу, она сделала возможными все искусства, включая предельно эгоцентрическую прозу Набокова.
Он создавал картины, достоверность которых никто не мог проверить. И в этом обставленным им мире мы чувствуем себя чужими, словно в музее на школьной экскурсии.
В сущности, Набокову хватало одной вдохновившей его читательницы, с которой этот «гений тотальной памяти» расплачивался бесконечными дарами.
Мнемозину я видел в Делавере на картине Данте Россетти, которая украшает лучшее в Америке собрание прерафаэлитов. Художнику позировала очаровательная дочь конюха Джейн Моррис. Став музой в этом кругу, она, помимо рафинированного английского, овладела французским с итальянским, научилась играть на фортепиано и послужила прототипом Элизы Дулитл в «Пигмалионе» Бернарда Шоу.
В конце концов, чтобы отблагодарить Набокова, Мнемозина обернулась бабочкой, и стала называться на более понятном ей языке: Parnassius Mnemosyne.
7. Маргиналии
Мой не склонный к рефлексии брат, за что я обычно называю его «спортивным», однажды бросил замечание, над которым мне пришлось надолго задуматься.
— Лучший день, — сказал он, — тот, что мы прожили, не заметив.
— ?! — возмутился я.
— Представь себе, что ты умираешь от рака.
Я представил, почти согласился, но все же уперся.
Каким бы ни был мой день, теперь я больше всего боюсь потерять его навсегда.
Но этот страх пришел лишь тогда, когда я перестал торопить время. Раньше, будучи моложе всех, с кем дружил и кому завидовал, я надеялся их догнать. Но мне это никак не удавалось, и я утешал себя апорией Зенона, сравнивая себя то с Ахиллом, то с черепахой, но никогда с собой.
Кончилось тем, что я и впрямь обогнал почти всех, кого любил. Они умерли, а я стал считать дни самой твердой валютой. Боясь ее разменять на пустяки и тряпки, я сочинял изощренное расписание, взвешивая на весах пользы и разума утраченное время. А чтобы оно не утекло без следа, завел двойную бухгалтерию в дневнике, который назвал, как все долговечное, по-латыни: marginalia. Затейливое название подразумевало, что я буду его вести на полях прожитого с той же строгостью, с какой школьные учителя делились там мнением о моих незрелых грехах.
Но тут же встал острый вопрос: что заслуживает себе место в моих маргиналиях? Первым я отбросил интимное и мимолетное, считая легкомысленным тратить дневник на личную жизнь, у всех, в сущности, схожую. Вместо этого в ход пошли интеллектуальные радости, прежде всего цитаты из свежепрочитанного.
Я гордился ими, будто сам был и охотником, и добычей. Если Эйзенштейн считал цитаты кирпичами собственных концепций, то мне и подавно не стоило их бояться.
За то, что они будили попутные мысли, я назначил цитаты отложенными на посев зернами, которые Гете завещал пускать на помол для муки словесности.
Ради этого я с азартом потрошил классиков, и маргиналии росли, но не пухли. Ведь они прятались в моем первом компьютере, куда влезало намного больше, чем я мог написать.
Э-век тогда еще был молодым, и я надеялся состариться вместе с ним, полагаясь на то, что если «рукописи не горят», то в компьютере тем более ничего не пропадает.
— Кроме всего, — сказала мне судьба, когда мой головастый «Мак» сломался, не оставив следов моей бурной деятельности.
Это случилось в аккурат на рубеже тысячелетий, и мне привиделся в аварии знак свыше.
— Лучший дневник, — успокаивал я себя, — память без костылей, дырявая, словно решето. И чем крупнее ячея, тем лучше — застревают только большие камни: лапидарные мысли, шутки, обиды, остроты, уколы счастья. А все, что забыл, не заслужило того, чтобы его запомнить.
Великий мастер памяти Набоков создавал иллюзию сплошного прошлого. Но оно интересно и с дырками. Когда воспоминания покрывает туфом «забвения взбесившийся везувий» (А. Цветков), то все, что из него торчит, приобретает дополнительный вес и престижный статус, как артефакты, найденные в Помпеях.
Убедив себя, я распрощался с дневником навсегда, ибо слабеющая память сама себя очищает от банального. Хорошо я помню только острое, смешное, непонятное. Мой опыт воспоминания — смесь большого и мелкого в загадочной пропорции. А все, что забыл, делает мое прошлое индивидуальным, как отпечаток пальца, и узорчатым, как кружева.
Так Лета и Мнемозина трудятся сообща. И если о первой мы забываем, то вторая напомнит.
Нью-Йорк, июнь 2023